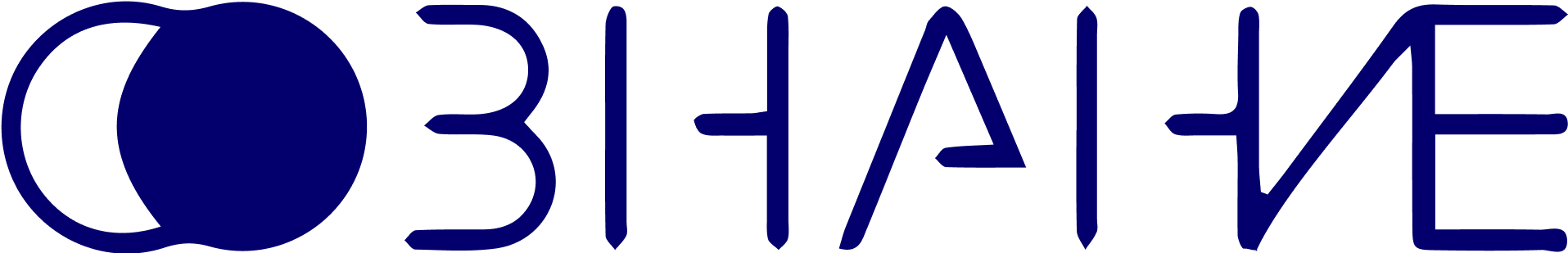Взаимодействие психики и сомы
Исследование механизма психосоматических проявлений: как психические конфликты отражаются в теле, роль репрессии, телесных симптомов и способы психоаналитического подхода к восстановлению связи между сознанием и физикой.
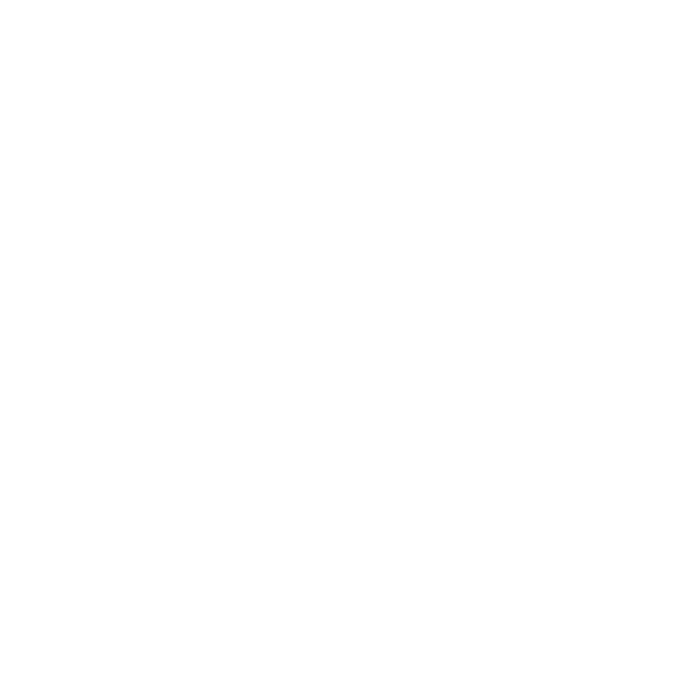
Лившиц Наталья Дмитриевна
Психоаналитик, Основательница центра, Кандидат психологических наук, доцент
Вопрос взаимодействия психики и сомы, влияния одного на другое является одним из ключевых в психоаналитической теории. Попытки понять это взаимодействие в середине XX века получили различные воплощения, как например у Чикагской школы с идеей о профилях пациентов с классификацией конфликтов для каждого отдельного заболевания; с попыткой распространить модель истерии на каждое соматическое заболевание у Жан - Поля Валабрега, которая подчеркивала наличие психической составляющей в любом соматическом нарушении. Но если одни исследователи видели смысл в каждом телесном проявлении любого уровня, представители Парижской психосоматической школы обратили свое внимание на пациентов без шумных симптомов и красноречивых жалоб, их внимание привлекли те, кто обращались за консультацией по поводу своих физических страданий. Будучи адаптированными в социальной жизни и не испытывающие проблем в аффективной сфере, они были поглощены внутренним соматическим объектом. Для данных пациентов было сложно найти смысл в болезни, болезнь характеризовалась как раз-таки отсутствием смысла, невозможностью, недостаточностью средств для символизации психического, на первый план выходила повышенная возбудимость, особое внимание к фактуальному, обращение к действию. Эти наблюдения и дальнейшие исследования позволили выдвинуть идею о трех возможных путях переработки возбуждения (Марти): ментализация, поведение (или актинг) и соматизация, а понимание психосоматической сути человека, и, соответственно, индивидуального диапазона каждого, привело к идеи рассмотрения пациента в рамках клиники возбуждения и продолжило в каком-то смысле Фрейдовское понимание связи между психическим и соматическим и оппозицию между актуальным неврозом с его прямой соматической разрядкой в тело при нарушении либидинальной экономики и противоположенным полюсом сверхдетерминированности в случае соматического нарушения при истерии в сторону развития идей о неврозе характера и неврозе поведения.
Жерар Швек утверждал «Истерик говорит через свое тело, а психосоматический пациент страдает в своем теле». Независимо от уровня функционирования, любой может время от времени обращаться к телу, для того чтобы что-то выразить. Субъект обращается к телу, когда его психических ресурсов недостаточно: психический аппарат перегружен, не в состоянии выдерживать внутреннее возбуждение и деструктивность.
В «Я и Оно» Фрейд пишет о том, что «Я» прежде всего является телесным. Опыт взаимодействия с первичным объектом, качество его отклика позволяет приобрести младенцу первое представление о себе как о теле, опыт границ, как своих, так и другого, опыт телесного. Это взаимодействие определяет формирование мазохистического ядра и способность связывать влечения, формирование рамочной структуры в терминологии Грина, которая позволяет создать нарциссические рамки «Я» и направляющую структуру психики, позволяет развить фантазматическую деятельность. Именно объект участвует в работе символизации, позволяя аффекту интегрироваться в репрезентативную цепочку, а не остаться свободно плавающим возбуждением. Но объект также является неотъемлемой частью влечения (Грин), и проявителем, и агентом переплетения влечений. Материнская функция позволяет трансформировать биологическое тело в тело влеченческое, помогает проделывать работу по связыванию соматических возбуждений, а провал процесса ведет в последующем к использованию инструментария влечения смерти для того, чтобы противостоять недифференцированному возбуждению. В случае с психосоматическим пациентом мы сталкиваемся с соматическим всплеском на месте, где должна была бы быть психическая переработка, с возбуждением не нашедшем свое место в психике. Степень возбуждения зачастую превосходит возможность либидинального связывания, и конфликт из области психического переносится в тело, тем самым позволяя сохранить хрупкое Я. Филипп Жежер подчеркивает роль соматизации в укреплении связи психики и сомы, при травматическом опыте, вызывающем разрыв в переживании непрерывности существования. Таким образом, можно рассмотреть соматизацию как спасение субъекта от угрожающей дезорганизации или деперсонализации.
Фрейд писал: «Сильный эгоизм защищает от болезни, но в конце концов, необходимо начать любить для того, чтобы не заболеть, и остается только заболеть, когда вследствие несостоятельности своей лишаешься возможности любить». В исследовании соматических проявлений и соматизации невозможно обойти стороной вопрос нарциссизма. Первичный нарциссизм, в случае если он достаточно крепкий, позволяет переносить субъекту регресс, не прибегая к соматическим решениям, в то время как нарциссическая хрупкость не позволяет столкнуться с психическими страданиями, и тогда болезнь кажется спасением. Кроме того, соматическая конкретизация защищает субъект от безумия, которое могло возникнуть в случае архаических фантазий и тревог, страха потери идентичности, на что указывает МакДугалл. И если неперерабатываемый психикой избыток возбуждения на психическом уровне угрожает нарциссической целостности, на уровне соматических страданий он получает конкретность. Сохраняя нарциссическую целостность, соматическое решение вместе с тем может создавать и условие для психосоматической реорганизации.
Жерар Швек утверждал «Истерик говорит через свое тело, а психосоматический пациент страдает в своем теле». Независимо от уровня функционирования, любой может время от времени обращаться к телу, для того чтобы что-то выразить. Субъект обращается к телу, когда его психических ресурсов недостаточно: психический аппарат перегружен, не в состоянии выдерживать внутреннее возбуждение и деструктивность.
В «Я и Оно» Фрейд пишет о том, что «Я» прежде всего является телесным. Опыт взаимодействия с первичным объектом, качество его отклика позволяет приобрести младенцу первое представление о себе как о теле, опыт границ, как своих, так и другого, опыт телесного. Это взаимодействие определяет формирование мазохистического ядра и способность связывать влечения, формирование рамочной структуры в терминологии Грина, которая позволяет создать нарциссические рамки «Я» и направляющую структуру психики, позволяет развить фантазматическую деятельность. Именно объект участвует в работе символизации, позволяя аффекту интегрироваться в репрезентативную цепочку, а не остаться свободно плавающим возбуждением. Но объект также является неотъемлемой частью влечения (Грин), и проявителем, и агентом переплетения влечений. Материнская функция позволяет трансформировать биологическое тело в тело влеченческое, помогает проделывать работу по связыванию соматических возбуждений, а провал процесса ведет в последующем к использованию инструментария влечения смерти для того, чтобы противостоять недифференцированному возбуждению. В случае с психосоматическим пациентом мы сталкиваемся с соматическим всплеском на месте, где должна была бы быть психическая переработка, с возбуждением не нашедшем свое место в психике. Степень возбуждения зачастую превосходит возможность либидинального связывания, и конфликт из области психического переносится в тело, тем самым позволяя сохранить хрупкое Я. Филипп Жежер подчеркивает роль соматизации в укреплении связи психики и сомы, при травматическом опыте, вызывающем разрыв в переживании непрерывности существования. Таким образом, можно рассмотреть соматизацию как спасение субъекта от угрожающей дезорганизации или деперсонализации.
Фрейд писал: «Сильный эгоизм защищает от болезни, но в конце концов, необходимо начать любить для того, чтобы не заболеть, и остается только заболеть, когда вследствие несостоятельности своей лишаешься возможности любить». В исследовании соматических проявлений и соматизации невозможно обойти стороной вопрос нарциссизма. Первичный нарциссизм, в случае если он достаточно крепкий, позволяет переносить субъекту регресс, не прибегая к соматическим решениям, в то время как нарциссическая хрупкость не позволяет столкнуться с психическими страданиями, и тогда болезнь кажется спасением. Кроме того, соматическая конкретизация защищает субъект от безумия, которое могло возникнуть в случае архаических фантазий и тревог, страха потери идентичности, на что указывает МакДугалл. И если неперерабатываемый психикой избыток возбуждения на психическом уровне угрожает нарциссической целостности, на уровне соматических страданий он получает конкретность. Сохраняя нарциссическую целостность, соматическое решение вместе с тем может создавать и условие для психосоматической реорганизации.
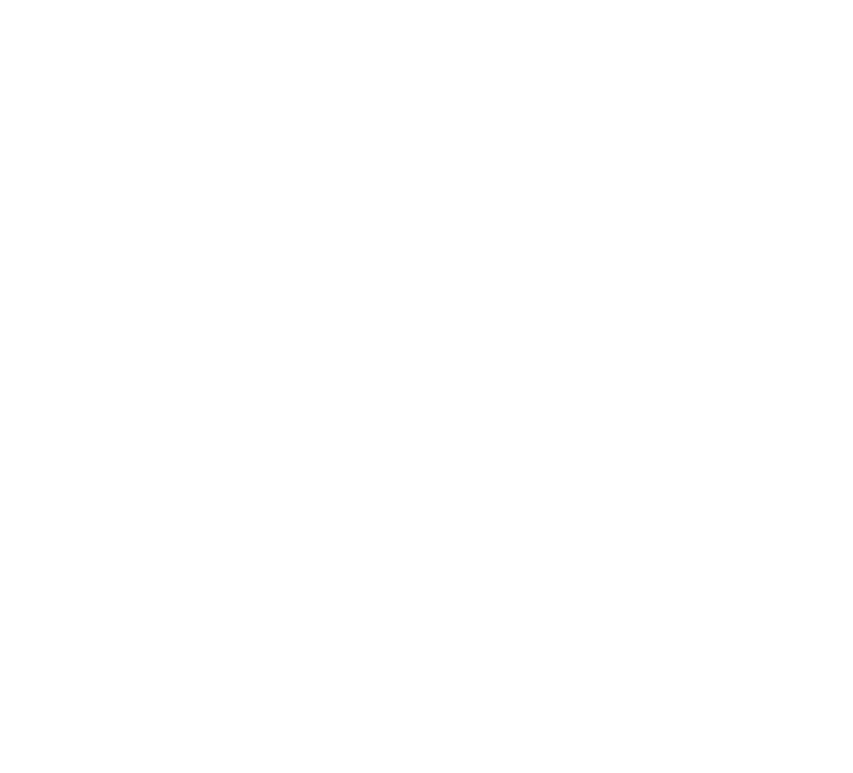
Психосоматические состояние, тревога, депрессия, внутренние конфликты. Понимание причин, а не только симптомов. Классический психоанализ, работа с бессознательным. Психоаналитик IPA Н.Д.Лившиц.
Обращение к вопросу реорганизации также ведет и к обращению к вопросу согласованности или рассогласованности работы двух влечений. Где, с одной стороны, влечение к жизни нацелено на создание новых связей, поддержание и укрепление уже имеющихся, влечение к смерти работает в направлении разрушения. Разъединенность влечений способствует соматической уязвимости, а непрерывное разъединение вызывает либидинальную регрессию, которая своим результатом, как отмечает Клод Смаджа, может иметь психосоматическое разрушение. Динамику работы двух влечений можно увидеть в процессе работы соматизации вышеупомянутого автора. Работа соматизации касается ситуаций, которые вовлекают «Я» в процесс психической дезорганизации и может включать как регрессию, так и исчезновение либидинальной экономики, что ведет к высвобождению влечения к смерти. Больной соматический орган становится объектом, где расположен конфликт, не нашедший свое место в психике. На первом этапе «Я» сталкивается с массивным объемом агрессии, ненависти, деструктивности. Работа влечения к смерти выполняется в процессе дезобъектализации для уменьшения боли и возбуждения. Но следом возможен этап исцеления, на котором у «Я», благодаря защищающей роли влечения к смерти, вновь появляется либидо. И важным представляется понимание роли либидо в исходе работы соматизации: импульсы деструктивности проецируются и придают больному органу значение «Сверх-Я», и жизненные импульсы, которые делают больной орган новым объектом для соматизации. Появление органа в области восприятия «Я» говорит об этапе исцеления.
Рассмотрение вопроса тела невозможно без обращения к явлению ипохондрии. По мере развития психоаналитических концепций взгляд Фрейда на ипохондрию видоизменялся: от способа отвода либидо в «Я» и идеи о застое либидо, к идее об эрогенности органов и ипохондрическому страху, реализуемому через боль, которая в силу слабости первичного эрогенного мазохизма, сверхинвестируется, что с одной стороны приводит к связыванию аффекта, но с другой может привести к отчуждению органа от тела, став тем самым на путь психотического процесса диссоциации.
Для ипохондрии характерен свой язык – язык органа, это то, что сближает в каком-то смысле с соматизацией – отсутствие репрезентативных возможностей психики для вербализации. Но вместе с тем есть и значительное различие – если при соматизации аффект подавлен (Грин), то при ипохондрии он проецируется вовне. А.Жибо и М.Айзенштайн предлагает концепцию работы ипохондрии, при которой либидо фиксируется на объекте, посредством проекции в тело, тем самым сохраняя объектные инвестиции и делая возможным впоследствии повторное инвестирование объекта. Ипохондрическое решение позволяет субъекту сохранять контроль и замещать психическую боль телесной.
Мы видим, что тело позволяет субъекту справляться с психической болью и переживаниями различной силы, предоставляя себя, чтобы сохранить жизнь субъекта. Диапазон явлений, связанных с телом и язык этих явлений весьма обширен и включает в себя как явления с конверсионной составляющей, так и явления клиники негатива. Но возвращаясь к вопросу «Тело - говорящее или страдающее?», я думаю, что действительно тело может с нами говорить с помощью симптома, наделенного бессознательным содержанием, может применять ипохондрическое решение. Де Мюзан утверждал, что психосоматический симптом глуп, а Кристоф де Жур, что он имеет цель, и возможно в отсутствии смысла у симптома, но в наличии страдания тела мы говорим о языке архаическом, довербальном и нерепрезентируемом, но мы говорим о том, что субъект нуждается, нуждается в помощи, и страдая говорит об этом телом.
Рассмотрение вопроса тела невозможно без обращения к явлению ипохондрии. По мере развития психоаналитических концепций взгляд Фрейда на ипохондрию видоизменялся: от способа отвода либидо в «Я» и идеи о застое либидо, к идее об эрогенности органов и ипохондрическому страху, реализуемому через боль, которая в силу слабости первичного эрогенного мазохизма, сверхинвестируется, что с одной стороны приводит к связыванию аффекта, но с другой может привести к отчуждению органа от тела, став тем самым на путь психотического процесса диссоциации.
Для ипохондрии характерен свой язык – язык органа, это то, что сближает в каком-то смысле с соматизацией – отсутствие репрезентативных возможностей психики для вербализации. Но вместе с тем есть и значительное различие – если при соматизации аффект подавлен (Грин), то при ипохондрии он проецируется вовне. А.Жибо и М.Айзенштайн предлагает концепцию работы ипохондрии, при которой либидо фиксируется на объекте, посредством проекции в тело, тем самым сохраняя объектные инвестиции и делая возможным впоследствии повторное инвестирование объекта. Ипохондрическое решение позволяет субъекту сохранять контроль и замещать психическую боль телесной.
Мы видим, что тело позволяет субъекту справляться с психической болью и переживаниями различной силы, предоставляя себя, чтобы сохранить жизнь субъекта. Диапазон явлений, связанных с телом и язык этих явлений весьма обширен и включает в себя как явления с конверсионной составляющей, так и явления клиники негатива. Но возвращаясь к вопросу «Тело - говорящее или страдающее?», я думаю, что действительно тело может с нами говорить с помощью симптома, наделенного бессознательным содержанием, может применять ипохондрическое решение. Де Мюзан утверждал, что психосоматический симптом глуп, а Кристоф де Жур, что он имеет цель, и возможно в отсутствии смысла у симптома, но в наличии страдания тела мы говорим о языке архаическом, довербальном и нерепрезентируемом, но мы говорим о том, что субъект нуждается, нуждается в помощи, и страдая говорит об этом телом.
Tilda Publishing