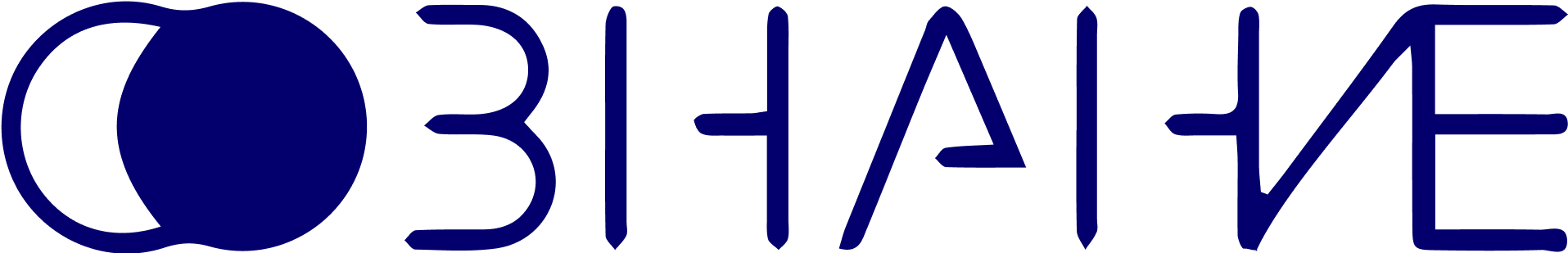Механизмы гедонической адаптации: саморегуляция и самостабилизация
Автор - Гордеева О.В
Сборник Психология человека как субъекта познания, общения и деятельности / Отв. ред. В. В. Знаков, А. Л. Журавлёв. – М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2018. - С. 1954-1961.
Исследование механизмов гедонической адаптации в контексте саморегуляции, включая нейропсихологические и эмоциональные аспекты, а также их влияние на психическое благополучие.
Сборник Психология человека как субъекта познания, общения и деятельности / Отв. ред. В. В. Знаков, А. Л. Журавлёв. – М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2018. - С. 1954-1961.
Исследование механизмов гедонической адаптации в контексте саморегуляции, включая нейропсихологические и эмоциональные аспекты, а также их влияние на психическое благополучие.
Эмоциональная система после реакции нуждается в восстановлении готовности к реагированию, в возвращении ее к исходному состоянию. Эти процессы нашли отражение в модели «Динамика аффекта» П.Куппенса, возможности применения которой для описания и объяснения феномена гедонической адаптации рассматриваются. Анализ эмпирических данных показывает, что феномен гедонической адаптации представляет собой сохранение и поддержание устойчивого фонового эмоционального состояния через снижение эмоциональной чувствительности под влиянием эмоциогенных стимулов. Объяснение данного феномена как результата действия регулятивных процессов приводит к необходимости введения нового понятия «самостабилизация» для обозначения непроизвольной регуляции собственных эмоций как присущего «натуральной» психике механизма. Самостабилизация отличается от саморегуляции по происхождению, форме контроля и строению, но сходна по выполняемой регулятивной функции.
Проблема регуляции эмоций становится одной из наиболее изучаемых в современной психологии эмоций (Дж.Гросс, Н.Гарнефски, Р.Томпсон и др.). Причина этого – как необходимость построения теоретической модели эмоциональной реакции, включающей – наряду с другими (физиологическим, экспрессивным, поведенческим и т.д.) – компонент регуляции этой эмоции, так и запросы практики, обусловленные быстрым ростом в современном обществе частоты встречаемости расстройств, характеризующихся наличием выраженных нарушений регуляции эмоций (депрессивные, тревожные, психосоматические и др.) (см. Первичко, 2014). Термином «регуляция эмоций» мы будем называть процессы саморегуляции, направленные на изменение, индукцию, прекращение или поддержание определенной эмоции.
Одной из характеристик эмоций является их ограниченность во времени, что имеет огромное адаптивное значение. Так, эмоции оценивают внешние и внутренние события в соотношении с потребностями и мотивами субъекта, т.е. с позиции последних. Поэтому система эмоционального реагирования должна постоянно находиться в состоянии готовности, чтобы субъект мог дать эмоциональную оценку следующего события и сформировать на ее основе адаптивное поведение. Отсюда - эволюционная необходимость в наличии системы, призванной «очищать» эмоциональную сферу, возвращая ее к изначальному состоянию (в психологии часто ставится вопрос о появлении феноменов психического отражения, но очень редко - об их исчезновении, «стирании»).
Эти процессы реагирования и восстановления готовности эмоциональной системы нашли отражение в модели Петера Куппенса, названной «Динамика аффекта» (западные психологи по традиции используют термин «аффект» в широком смысле, соответствующем отечественному понятию «эмоция»).
Проблема регуляции эмоций становится одной из наиболее изучаемых в современной психологии эмоций (Дж.Гросс, Н.Гарнефски, Р.Томпсон и др.). Причина этого – как необходимость построения теоретической модели эмоциональной реакции, включающей – наряду с другими (физиологическим, экспрессивным, поведенческим и т.д.) – компонент регуляции этой эмоции, так и запросы практики, обусловленные быстрым ростом в современном обществе частоты встречаемости расстройств, характеризующихся наличием выраженных нарушений регуляции эмоций (депрессивные, тревожные, психосоматические и др.) (см. Первичко, 2014). Термином «регуляция эмоций» мы будем называть процессы саморегуляции, направленные на изменение, индукцию, прекращение или поддержание определенной эмоции.
Одной из характеристик эмоций является их ограниченность во времени, что имеет огромное адаптивное значение. Так, эмоции оценивают внешние и внутренние события в соотношении с потребностями и мотивами субъекта, т.е. с позиции последних. Поэтому система эмоционального реагирования должна постоянно находиться в состоянии готовности, чтобы субъект мог дать эмоциональную оценку следующего события и сформировать на ее основе адаптивное поведение. Отсюда - эволюционная необходимость в наличии системы, призванной «очищать» эмоциональную сферу, возвращая ее к изначальному состоянию (в психологии часто ставится вопрос о появлении феноменов психического отражения, но очень редко - об их исчезновении, «стирании»).
Эти процессы реагирования и восстановления готовности эмоциональной системы нашли отражение в модели Петера Куппенса, названной «Динамика аффекта» (западные психологи по традиции используют термин «аффект» в широком смысле, соответствующем отечественному понятию «эмоция»).
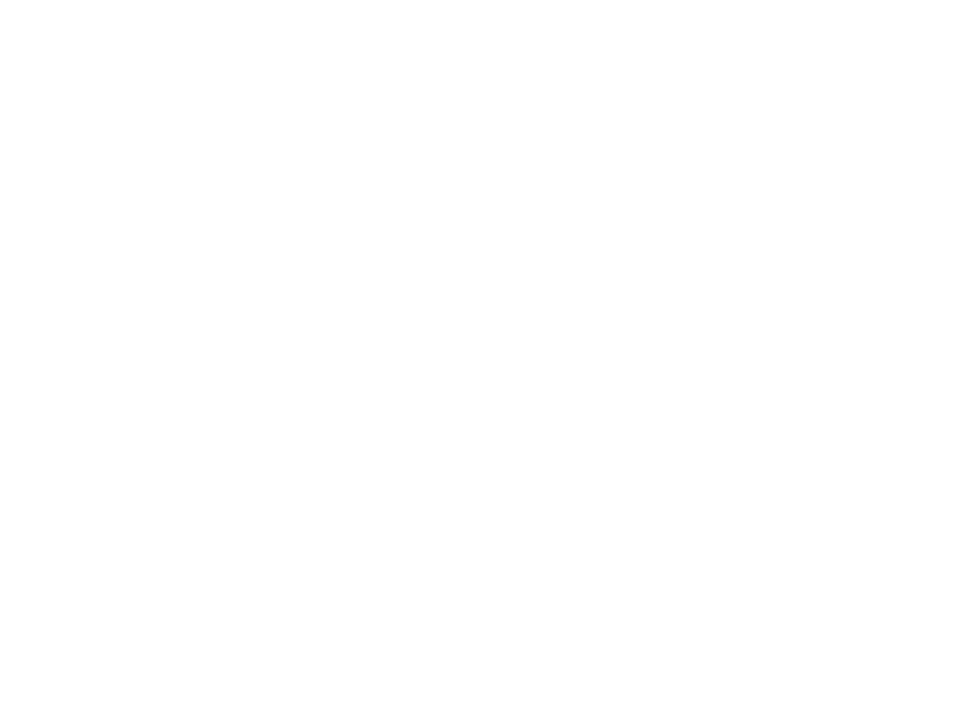
Команда клинических психологов во главе с психоаналитиком помогут преодолеть кризисную ситуацию и получить ощутимые результаты и улучшение качества жизни.
Продолжая решение задачи выявления и графического представления структуры эмоции, впервые поставленной В.Вундтом, Куппенс, опираясь на модель ядерного аффекта Расселла и Фельдман Барретт, создает модель аффективного пространства, в котором ядерный аффект (реальная эмоция в конкретный момент времени) локализован как точка. Временная динамика аффекта графически может быть выражена движением точки в этом пространстве (т.н. "траекторией аффекта"), причем паттерны траекторий специфичны для каждого человека (Kuppens et al., 2010). Вводится понятие «аффективная исходная база» (affective home base) (АИБ), которое у Куппенса обозначает и некое устойчивое эмоциональное состояние, преобладающее в отсутствие эмоциогенных стимулов, и «точку отсчета» системы эмоциональной оценки (насколько оправданна такая многозначность термина, мы выясним далее). Графически АИБ выражается точкой в аффективном пространстве, которая является исходной – из нее начинается эмоциональный сдвиг под влиянием события и сюда (предположительно) возвращается человек после эмоциональной реакции. АИБ представляет собой оптимальное и желательное для субъекта эмоциональное состояние, «зону эмоционального комфорта» (при этом показатели АИБ весьма индивидуальны) (Kuppens et al., 2010).
Проблема координат АИБ – это вопрос о том, каково эмоциональное состояние человека в отсутствие эмоциогенных событий. Качиоппо и Гарднер (Cacioppo, Gardner, 1999), а также Куппенс и коллеги (Kuppens et al., 2010) экспериментально установили, что АИБ у большинства здоровых людей характеризуется незначительной положительной валентностью и несколько повышенным уровнем возбуждения, что согласуется с полученными в позитивной психологии данными (Diener et al. 2006).
Эмоциональная система, по Куппенсу, имеет гомеостатический характер, т.е. при каких либо отклонениях эмоций от АИБ возникает сила, возвращающая эмоциональное состояние к исходной точке, т.е. в оптимальное для формирования следующей эмоциональной реакции состояние («принцип аттрактора» (притяжения)). Сила аттрактора (также индивидуальная характеристика) определяет, как быстро и насколько успешно произойдет восстановление исходного состояния. Для оценки ее величины используют показатель скорости, с которой эмоция покидает точку текущего состояния, стремясь к точке АИБ. Модель Куппенса не только выявляет индивидуальные особенности динамики повседневных эмоций, но и предсказывает эту динамику на основе данных о текущих эмоциях (например, определяет, как скоро произойдет у человека восстановление от переживаемой в данный момент эмоции) (Kuppens et al., 2010).
Возникает вопрос, могут ли координаты АИБ меняться под влиянием происходящих в жизни эмоциогенных событий. Здесь нам необходимо обратиться к феномену т.н. гедонической адаптации.
Гедонической адаптацией называют феномен возвращения к исходному (базовому) эмоциональному состоянию в условиях, когда эмоциогенный стимул продолжает действовать: происходит своего рода «привыкание», или «адаптация», к его воздействию, причем вне зависимости от знака вызываемой этим стимулом эмоции (см., например, Frederick, Loewenstein, 1999) - вероятно, это защищает эмоциональную систему от перегрузок и возвращает ее в состояние готовности. Это приводит к неожиданным и удивительным, с точки зрения здравого смысла, явлениям – «привыканию» человека даже к крайне позитивным и негативным вещам и его возвращению к прежнему уровню счастья (оцениваемому по данным самоотчетов). Так, Соня Любомирски приводит много жизненных историй, как люди адаптировались, получив различные блага жизни (переезд в более просторный дом, повышение зарплаты, более высокую должность, возвращенные пластической операцией красоту и молодость, вступление в брак, нормальное зрение, внезапное богатство), о которых до этого мечтали: первое время они счастливы, потом уровень счастья возвращается к исходному (Любомирски, 2014).
Житейские наблюдения подтверждаются данными научных исследований. Так, Ричардом Лукасом и коллегами было обнаружено, что брак оказывает лишь временное влияние на уровень счастья: сразу после свадьбы уровень счастья мужа и жены растет и остается повышенным около двух лет, а затем супруги вновь возвращаются к базовому уровню счастья (Lukas et al. 2003). В классическом исследовании Филиппа Брикмана, Дэна Коутса и Ронни Янофф-Булман (Brickman et al. 1978) обнаружено, что люди, выигравшие от 50 тысяч до миллиона долларов в лотерею, через год после выигрыша не только не чувствовали себя счастливее, но и получали меньше удовольствия от обыденных приятных событий (общение с друзьями, просмотр телепередач, вкусная еда, шутка и т.д.), чем контрольная группа (Brickman et al. 1978).
Раз человек быстро привыкает к действию позитивного события, то чтобы сохранить временно повысившийся переживаемый уровень счастья, ему надо стимулировать себя все более сильными положительными стимулами. Это явление получило название гедонической беговой дорожки (hedonic treadmill) (см. обзор Frederick & Loewenstein, 1999).
Хотя гедоническая адаптация в конечном счете «съедает» счастье после любого позитивного события, в ней есть и преимущества – она позволяет быстро приспосабливаться к крайне негативным обстоятельствам (Любомирски, 2014; Аргайл, 2003, с.62-63). Так, в исследовании Джейсона Рииса и коллег, проводимом с помощью метода выборки переживаний, обнаружилось (анализировались средние оценки настроения за неделю), что пациенты с хроническими заболеваниями почек, вынужденные еженедельно проходить гемодиализ, не менее счастливы, чем здоровые люди (сами пациенты не осознавали наличия гедонической адаптации и утверждали, что были бы более счастливыми, будучи здоровыми) (Riis et al. 2005). В ряде работ (Schneider, 1998, p. 71) показано наличие некоторой степени гедонической адаптации в случае таких серьезных болезней как повреждения спинного мозга, паралич, слепота, рассеянный склероз, а также других заболеваний, связанных с потерей важных возможностей или функций, причем общая удовлетворенность жизнью со временем повышалась (см. обзоры Любомирски, 2014; Аргайл, 2003, с.62-63).
В связи с этим исследовался вопрос о зависимости быстроты и степени привыкания от особенностей стимула. Изучая вопрос о связи уровня дохода и счастья, Даниэл Канеман и Ангус Дитон (Kahneman, Deaton, 2010) предложили различать два аспекта субъективного благополучия – эмоциональный и когнитивный. Показателем первого выступают частота, интенсивность и длительность положительных и отрицательных эмоций, переживаемых в течение дня. Оценка жизни выражает когнитивный аспект благополучия, ее показателем выступают мысли человека о своей жизни, когда он задумывается о ней. Обнаружено, что с возрастанием доходов оценка жизни неуклонно растет, а эмоциональное благополучие сначала тоже повышается, но его рост прекращается после достижения уровнем доходов определенной точки (в размере $75,000) (Kahneman, Deaton, 2010). Задав вопрос о том, что, возможно, уровень счастья у выигравших в лотерею не возрос потому, что эти деньги были ими неправильно потрачены, Элизабет Данн и др. (Dunn et al., 2011) показали, что людей более счастливыми делают деньги, потраченные на впечатления (например, отпуск, уроки танцев или вечеринки с друзьями), а не на материальные блага, и эмоциональная адаптация к приобретенным вещам наступает быстрее, чем к хорошим впечатлениям, становящихся основой приятных воспоминаний.
Можно сделать вывод, что феномен гедонической адаптации выражает не изменение устойчивого (фонового) эмоционального состояния, а, наоборот, его сохранение и поддержание через снижение чувствительности к эмоциогенным стимулам определенной валентности, т.е. через изменение точки отсчета. Используя терминологию Куппенса, можно сказать, что при гедонической адаптации координаты АИБ как фонового состояния меняются незначительно, но меняется АИБ как точка отсчета. Следовательно, в данной модели необходимо разводить эти два конструкта, в том числе и терминологически. Это уже сделано в отечественной психологии эмоций, где АИБ как устойчивое состояние называется термином «преобладающий фон настроения», а АИБ как точка отсчета нашла отражение в термине «эмоциональная чувствительность».
Предложен ряд объяснений феномена гедонической адаптации: основанные на теории уровня адаптации (adaptation level theory) Х.Хелсона (Helson, 1964) объяснения смещением точки отсчета (Brickman et al., 1978; модель Куппенса), через изменение ожиданий и социальное сравнение (Аргайл, 2003; Любомирски, 2014), через участие механизмов саморегуляции (Аргайл, 2003; Freund, Keil, 2013). Но если объяснять адаптацию к негативным событиям включением стратегий регуляции эмоций (Freund, Keil, 2013), то что же включает их при событиях позитивных? Трудно представить себе, что обычный человек говорит себе, что пора перестать радоваться, ибо это – неадаптивно. Вероятно, здесь включаются такие регулятивные механизмы, которые не требуют произвольности для своего запуска.
На наш взгляд, в понятии «саморегуляция» в отечественной психологии фиксированы два значения - «регуляция мною самим» и «регуляция моей собственной психики», последняя может быть произвольной и непроизвольной. Их слияние в данном понятии часто приводит к пониманию саморегуляции лишь как произвольной и опосредованной.
В российской психологии принимается идея о том, что животные не могут сами произвольно регулировать свою психику (Соколова, Федорович, 2016), а лишь свое поведение, и то в ограниченной степени (Иванников, 2006). Но подчас упускается из виду то, что психика может регулироваться ненамеренно и без привлечения культурных средств, что некоторые механизмы регуляции «встроены» в систему психики. Способность к восстановлению исходного эмоционального состояния после эмоциональной реакции была «заложена» в эмоциональную систему еще до появления сознания. Например, кот переживает неудовольствие или гнев в ответ на наказание его хозяином, но через какое-то время его эмоциональная система приходит в равновесие – и он снова спокоен. Мы предлагаем обозначать этот процесс непроизвольной саморегуляции термином «самостабилизация», а произвольную - термином «саморегуляция».
Механизмы самостабилизации и саморегуляции эмоций имеют разные происхождение (первые - «натуральное», вторые - социальное), структуру (непосредственные – опосредованные), способ их регуляции со стороны субъекта (непроизвольные – произвольные), но общую функцию стабилизации эмоциональной системы, т.е. «очищение» ее от следов прошлых реакций и приведение ее в состояние готовности к новой реакции. Понятно, что подсистема самостабилизации формируется задолго до возникновения сознания. Появление сознания преобразует регуляцию психики, но не отменяет существования «натуральной», и механизмы самостабилизации продолжают действовать.
Идея о существовании «натуральных» механизмов регуляции вполне согласуется как с существующими в отечественной психологии представлениями о роли обратной связи (не представленной на сознательном уровне) в психической регуляции движения (Н.А.Бернштейн), так и с теориями эмоций, в которых подчеркивалась роль обратной связи в формировании и динамике эмоций (У.Джеймс, П.К.Анохин, С.Шехтер, К.Изард и др.). Идея о том, что наряду с социально обусловленными механизмами регуляции эмоций действуют «натуральные», начинает постепенно развиваться и в отечественной психологии (Волов, Волов, 2016).
Проблема исследований механизмов самостабилизации заключается в трудности их операционализации, отделения результатов их действия от действия механизмов саморегуляции. В самом деле, в одном и том же эффекте регуляции эмоций, например, в феномене гедонической адаптации, отражается работа обоих механизмов. Об этом хорошо известно специалистам по эмоциональным расстройствам, сталкивающимся с необходимостью сочетания психотерапевтической и фармакологической их коррекции. Поэтому встает задача создания методов, позволяющих увидеть работу механизмов самостабилизации в «чистом» виде. Перспективным представляется использование математического моделирования в соединении с формирующим экспериментом.
Литература
Аргайл М. Психология счастья. СПб.: Питер, 2003.
Любомирски С. Психология счастья. Спб.: Питер, 2014.
Brickman P., Coates D., Janoff-Bulman R. Lottery winners and accident victims: is happiness relative? // Journal of Personality and Social Psychology 1978. Vol.36, №8. P. 917-27.
Diener E., Lucas R.E., Scollon С.N. Beyond the hedonic treadmill: Revising the adap tion theory of well-being // American Psychologist. 2006. Vol. 61. P.305-314.
Frederick S., Loewenstein G. Hedonic adaptation // Well-being: The foundation of hedonic psychology / Ed. By Kahnemann D., Diener E., Schwarz N. N.Y.: Russell Sage Foundation, 1999. P. 302-329.
Kahneman D., Deaton A. High income improves evaluation of life but not emotional well-being. PNAS, August 4, 2010 https://www.princeton.edu/~deaton/downloads/deaton_kahneman_high_income_improves_evaluation_August2010.pdf
Kuppens P., Oravecz Z., Tuerlinckx F. Feelings Change: Accounting for Individual Differences in the Temporal Dynamics of Affect // Journal of Personality and Social Psychology. 2010, September 20. Advance online publication, doi: 10.1037/a0020962doi: 10.1037/a0020962
Russell J.A., Feldman Barrett. L. Core affect, prototyp ical episodes, and other things called emotion; Dissecting the elephant // Journal of Personality and Social Psychology. 1999. Vol.76. P. 805-819.
Проблема координат АИБ – это вопрос о том, каково эмоциональное состояние человека в отсутствие эмоциогенных событий. Качиоппо и Гарднер (Cacioppo, Gardner, 1999), а также Куппенс и коллеги (Kuppens et al., 2010) экспериментально установили, что АИБ у большинства здоровых людей характеризуется незначительной положительной валентностью и несколько повышенным уровнем возбуждения, что согласуется с полученными в позитивной психологии данными (Diener et al. 2006).
Эмоциональная система, по Куппенсу, имеет гомеостатический характер, т.е. при каких либо отклонениях эмоций от АИБ возникает сила, возвращающая эмоциональное состояние к исходной точке, т.е. в оптимальное для формирования следующей эмоциональной реакции состояние («принцип аттрактора» (притяжения)). Сила аттрактора (также индивидуальная характеристика) определяет, как быстро и насколько успешно произойдет восстановление исходного состояния. Для оценки ее величины используют показатель скорости, с которой эмоция покидает точку текущего состояния, стремясь к точке АИБ. Модель Куппенса не только выявляет индивидуальные особенности динамики повседневных эмоций, но и предсказывает эту динамику на основе данных о текущих эмоциях (например, определяет, как скоро произойдет у человека восстановление от переживаемой в данный момент эмоции) (Kuppens et al., 2010).
Возникает вопрос, могут ли координаты АИБ меняться под влиянием происходящих в жизни эмоциогенных событий. Здесь нам необходимо обратиться к феномену т.н. гедонической адаптации.
Гедонической адаптацией называют феномен возвращения к исходному (базовому) эмоциональному состоянию в условиях, когда эмоциогенный стимул продолжает действовать: происходит своего рода «привыкание», или «адаптация», к его воздействию, причем вне зависимости от знака вызываемой этим стимулом эмоции (см., например, Frederick, Loewenstein, 1999) - вероятно, это защищает эмоциональную систему от перегрузок и возвращает ее в состояние готовности. Это приводит к неожиданным и удивительным, с точки зрения здравого смысла, явлениям – «привыканию» человека даже к крайне позитивным и негативным вещам и его возвращению к прежнему уровню счастья (оцениваемому по данным самоотчетов). Так, Соня Любомирски приводит много жизненных историй, как люди адаптировались, получив различные блага жизни (переезд в более просторный дом, повышение зарплаты, более высокую должность, возвращенные пластической операцией красоту и молодость, вступление в брак, нормальное зрение, внезапное богатство), о которых до этого мечтали: первое время они счастливы, потом уровень счастья возвращается к исходному (Любомирски, 2014).
Житейские наблюдения подтверждаются данными научных исследований. Так, Ричардом Лукасом и коллегами было обнаружено, что брак оказывает лишь временное влияние на уровень счастья: сразу после свадьбы уровень счастья мужа и жены растет и остается повышенным около двух лет, а затем супруги вновь возвращаются к базовому уровню счастья (Lukas et al. 2003). В классическом исследовании Филиппа Брикмана, Дэна Коутса и Ронни Янофф-Булман (Brickman et al. 1978) обнаружено, что люди, выигравшие от 50 тысяч до миллиона долларов в лотерею, через год после выигрыша не только не чувствовали себя счастливее, но и получали меньше удовольствия от обыденных приятных событий (общение с друзьями, просмотр телепередач, вкусная еда, шутка и т.д.), чем контрольная группа (Brickman et al. 1978).
Раз человек быстро привыкает к действию позитивного события, то чтобы сохранить временно повысившийся переживаемый уровень счастья, ему надо стимулировать себя все более сильными положительными стимулами. Это явление получило название гедонической беговой дорожки (hedonic treadmill) (см. обзор Frederick & Loewenstein, 1999).
Хотя гедоническая адаптация в конечном счете «съедает» счастье после любого позитивного события, в ней есть и преимущества – она позволяет быстро приспосабливаться к крайне негативным обстоятельствам (Любомирски, 2014; Аргайл, 2003, с.62-63). Так, в исследовании Джейсона Рииса и коллег, проводимом с помощью метода выборки переживаний, обнаружилось (анализировались средние оценки настроения за неделю), что пациенты с хроническими заболеваниями почек, вынужденные еженедельно проходить гемодиализ, не менее счастливы, чем здоровые люди (сами пациенты не осознавали наличия гедонической адаптации и утверждали, что были бы более счастливыми, будучи здоровыми) (Riis et al. 2005). В ряде работ (Schneider, 1998, p. 71) показано наличие некоторой степени гедонической адаптации в случае таких серьезных болезней как повреждения спинного мозга, паралич, слепота, рассеянный склероз, а также других заболеваний, связанных с потерей важных возможностей или функций, причем общая удовлетворенность жизнью со временем повышалась (см. обзоры Любомирски, 2014; Аргайл, 2003, с.62-63).
В связи с этим исследовался вопрос о зависимости быстроты и степени привыкания от особенностей стимула. Изучая вопрос о связи уровня дохода и счастья, Даниэл Канеман и Ангус Дитон (Kahneman, Deaton, 2010) предложили различать два аспекта субъективного благополучия – эмоциональный и когнитивный. Показателем первого выступают частота, интенсивность и длительность положительных и отрицательных эмоций, переживаемых в течение дня. Оценка жизни выражает когнитивный аспект благополучия, ее показателем выступают мысли человека о своей жизни, когда он задумывается о ней. Обнаружено, что с возрастанием доходов оценка жизни неуклонно растет, а эмоциональное благополучие сначала тоже повышается, но его рост прекращается после достижения уровнем доходов определенной точки (в размере $75,000) (Kahneman, Deaton, 2010). Задав вопрос о том, что, возможно, уровень счастья у выигравших в лотерею не возрос потому, что эти деньги были ими неправильно потрачены, Элизабет Данн и др. (Dunn et al., 2011) показали, что людей более счастливыми делают деньги, потраченные на впечатления (например, отпуск, уроки танцев или вечеринки с друзьями), а не на материальные блага, и эмоциональная адаптация к приобретенным вещам наступает быстрее, чем к хорошим впечатлениям, становящихся основой приятных воспоминаний.
Можно сделать вывод, что феномен гедонической адаптации выражает не изменение устойчивого (фонового) эмоционального состояния, а, наоборот, его сохранение и поддержание через снижение чувствительности к эмоциогенным стимулам определенной валентности, т.е. через изменение точки отсчета. Используя терминологию Куппенса, можно сказать, что при гедонической адаптации координаты АИБ как фонового состояния меняются незначительно, но меняется АИБ как точка отсчета. Следовательно, в данной модели необходимо разводить эти два конструкта, в том числе и терминологически. Это уже сделано в отечественной психологии эмоций, где АИБ как устойчивое состояние называется термином «преобладающий фон настроения», а АИБ как точка отсчета нашла отражение в термине «эмоциональная чувствительность».
Предложен ряд объяснений феномена гедонической адаптации: основанные на теории уровня адаптации (adaptation level theory) Х.Хелсона (Helson, 1964) объяснения смещением точки отсчета (Brickman et al., 1978; модель Куппенса), через изменение ожиданий и социальное сравнение (Аргайл, 2003; Любомирски, 2014), через участие механизмов саморегуляции (Аргайл, 2003; Freund, Keil, 2013). Но если объяснять адаптацию к негативным событиям включением стратегий регуляции эмоций (Freund, Keil, 2013), то что же включает их при событиях позитивных? Трудно представить себе, что обычный человек говорит себе, что пора перестать радоваться, ибо это – неадаптивно. Вероятно, здесь включаются такие регулятивные механизмы, которые не требуют произвольности для своего запуска.
На наш взгляд, в понятии «саморегуляция» в отечественной психологии фиксированы два значения - «регуляция мною самим» и «регуляция моей собственной психики», последняя может быть произвольной и непроизвольной. Их слияние в данном понятии часто приводит к пониманию саморегуляции лишь как произвольной и опосредованной.
В российской психологии принимается идея о том, что животные не могут сами произвольно регулировать свою психику (Соколова, Федорович, 2016), а лишь свое поведение, и то в ограниченной степени (Иванников, 2006). Но подчас упускается из виду то, что психика может регулироваться ненамеренно и без привлечения культурных средств, что некоторые механизмы регуляции «встроены» в систему психики. Способность к восстановлению исходного эмоционального состояния после эмоциональной реакции была «заложена» в эмоциональную систему еще до появления сознания. Например, кот переживает неудовольствие или гнев в ответ на наказание его хозяином, но через какое-то время его эмоциональная система приходит в равновесие – и он снова спокоен. Мы предлагаем обозначать этот процесс непроизвольной саморегуляции термином «самостабилизация», а произвольную - термином «саморегуляция».
Механизмы самостабилизации и саморегуляции эмоций имеют разные происхождение (первые - «натуральное», вторые - социальное), структуру (непосредственные – опосредованные), способ их регуляции со стороны субъекта (непроизвольные – произвольные), но общую функцию стабилизации эмоциональной системы, т.е. «очищение» ее от следов прошлых реакций и приведение ее в состояние готовности к новой реакции. Понятно, что подсистема самостабилизации формируется задолго до возникновения сознания. Появление сознания преобразует регуляцию психики, но не отменяет существования «натуральной», и механизмы самостабилизации продолжают действовать.
Идея о существовании «натуральных» механизмов регуляции вполне согласуется как с существующими в отечественной психологии представлениями о роли обратной связи (не представленной на сознательном уровне) в психической регуляции движения (Н.А.Бернштейн), так и с теориями эмоций, в которых подчеркивалась роль обратной связи в формировании и динамике эмоций (У.Джеймс, П.К.Анохин, С.Шехтер, К.Изард и др.). Идея о том, что наряду с социально обусловленными механизмами регуляции эмоций действуют «натуральные», начинает постепенно развиваться и в отечественной психологии (Волов, Волов, 2016).
Проблема исследований механизмов самостабилизации заключается в трудности их операционализации, отделения результатов их действия от действия механизмов саморегуляции. В самом деле, в одном и том же эффекте регуляции эмоций, например, в феномене гедонической адаптации, отражается работа обоих механизмов. Об этом хорошо известно специалистам по эмоциональным расстройствам, сталкивающимся с необходимостью сочетания психотерапевтической и фармакологической их коррекции. Поэтому встает задача создания методов, позволяющих увидеть работу механизмов самостабилизации в «чистом» виде. Перспективным представляется использование математического моделирования в соединении с формирующим экспериментом.
Литература
Аргайл М. Психология счастья. СПб.: Питер, 2003.
Любомирски С. Психология счастья. Спб.: Питер, 2014.
Brickman P., Coates D., Janoff-Bulman R. Lottery winners and accident victims: is happiness relative? // Journal of Personality and Social Psychology 1978. Vol.36, №8. P. 917-27.
Diener E., Lucas R.E., Scollon С.N. Beyond the hedonic treadmill: Revising the adap tion theory of well-being // American Psychologist. 2006. Vol. 61. P.305-314.
Frederick S., Loewenstein G. Hedonic adaptation // Well-being: The foundation of hedonic psychology / Ed. By Kahnemann D., Diener E., Schwarz N. N.Y.: Russell Sage Foundation, 1999. P. 302-329.
Kahneman D., Deaton A. High income improves evaluation of life but not emotional well-being. PNAS, August 4, 2010 https://www.princeton.edu/~deaton/downloads/deaton_kahneman_high_income_improves_evaluation_August2010.pdf
Kuppens P., Oravecz Z., Tuerlinckx F. Feelings Change: Accounting for Individual Differences in the Temporal Dynamics of Affect // Journal of Personality and Social Psychology. 2010, September 20. Advance online publication, doi: 10.1037/a0020962doi: 10.1037/a0020962
Russell J.A., Feldman Barrett. L. Core affect, prototyp ical episodes, and other things called emotion; Dissecting the elephant // Journal of Personality and Social Psychology. 1999. Vol.76. P. 805-819.
Tilda Publishing