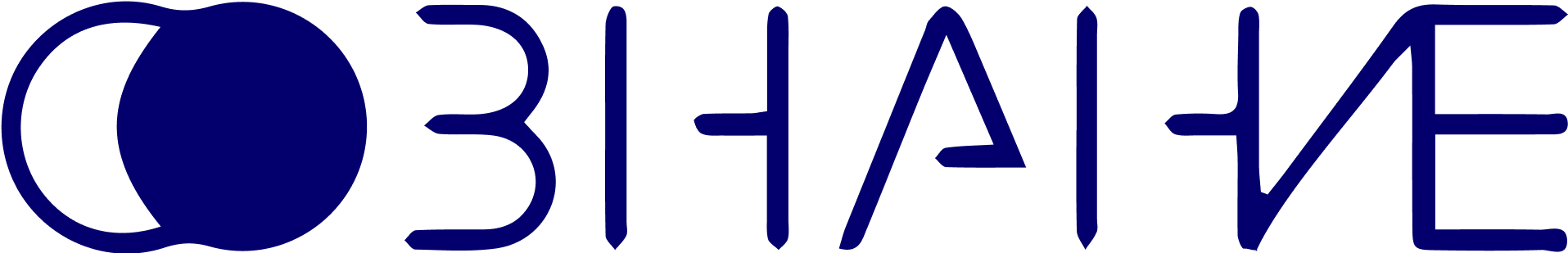Развитие представлений детей об эмоциях в онтогенезе
Автор - Люсин Д.В., Лившиц Н.Д.
Исследование этапов формирования представлений о эмоциях у детей в онтогенезе, включая когнитивные и эмоциональные аспекты, а также влияние на социальное и эмоциональное развитие.
Исследование этапов формирования представлений о эмоциях у детей в онтогенезе, включая когнитивные и эмоциональные аспекты, а также влияние на социальное и эмоциональное развитие.
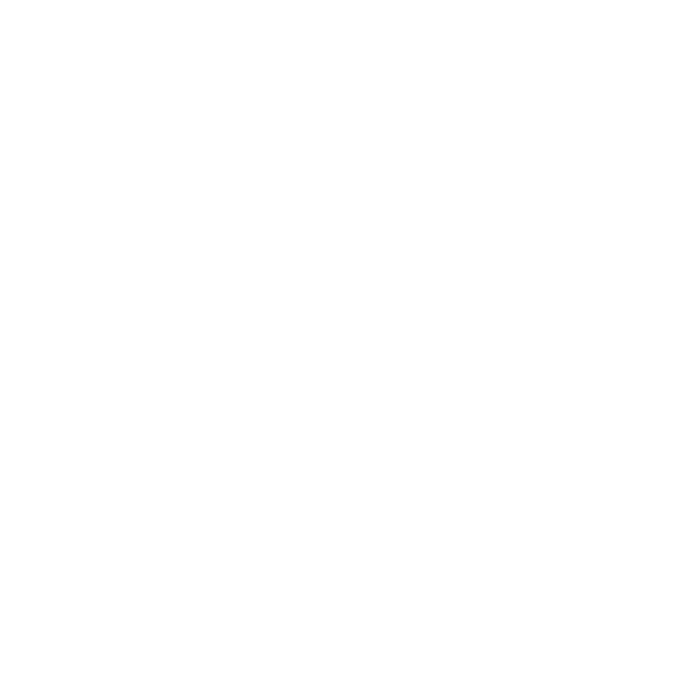
Лившиц Наталья Дмитриевна
Психоаналитик, Основательница центра, Кандидат психологических наук, доцент
В последние десятилетия большой интерес психологов привлекают исследования житейских психологических знаний. С одной стороны, работы такого рода позволяют уточнить и расширить сложившиеся научные представления об изучаемой реальности. Например, исследования имплицитных теорий интеллекта раскрыли культурную нагруженность понятия «интеллект» и ограниченность традиционных методов измерения интеллектуальных способностей. С другой – изучение житейских психологических знаний и их использования людьми при решении повседневных задач делают более полными исследования когнитивных процессов.
В данной работе нас интересовала проблема эмоций, их организация и развитие в онтогенезе. Помимо теоретического интереса, эта проблема представляется важной и для решения различных прикладных задач. Так, с точки зрения профилактики и коррекции отклонений в области межличностных взаимодействий важно знать, как и какие особенности знаний об эмоциях влияют на способность распознавать собственные и чужие эмоции и прогнозировать поведение окружающих. Понимание закономерностей организации и развития знаний об эмоциях имеет особое значение для разработки проблематики социального интеллекта. В этом смысле настоящее исследование относится к тому направлению, которое было задано работами Дж. Гилфорда о социальном интеллекте [16] и Х. Гарднера о межличностном и внутриличностном интеллекте [15].
Наиболее общая посылка при изучении онтогенеза системы знаний об эмоциях состоит в утверждении ее постепенного расширения и усложнения [1], [8], [12], [17]. Под расширением понимается повышение информированности ребенка в эмоциональной сфере и увеличение количества понятий, в которых осмысливаются эмоции («словаря эмоций»), что происходит за счет дифференциации первоначальных глобальных аффектов «приятное – неприятное». Усложнение этой системы выражается в усложнении характера связей между ее составляющими, в частности, в разрушении жесткой сцепленности между представлениями о причинах и следствиях той или иной эмоции и т.п.
Такие взгляды на ход развития системы знаний в сфере эмоций в целом разделяются психологами самых различных школ от Эго-психологии ([7], [20]) до современных когнитивных течений [18] — и подтверждаются рядом экспериментальных исследований. Установлено, что с возрастом дети начинают лучше идентифицировать эмоции, границы «эмоциональных» понятий становятся более четкими: так, маленькие дети применяют один и тот же термин для обозначения более широкого круга эмоциональных явлений, чем более старшие дети. Зафиксировано расширение словаря эмоций по мере взросления и увеличение числа параметров, по которым различаются эмоции: вначале их, как правило, два «возбуждение успокоение» и «удовольствие неудовольствие», за тем появляются параметры «связь с другими», «соответствие месту» и т.п. [11].
В данной работе нас интересовала проблема эмоций, их организация и развитие в онтогенезе. Помимо теоретического интереса, эта проблема представляется важной и для решения различных прикладных задач. Так, с точки зрения профилактики и коррекции отклонений в области межличностных взаимодействий важно знать, как и какие особенности знаний об эмоциях влияют на способность распознавать собственные и чужие эмоции и прогнозировать поведение окружающих. Понимание закономерностей организации и развития знаний об эмоциях имеет особое значение для разработки проблематики социального интеллекта. В этом смысле настоящее исследование относится к тому направлению, которое было задано работами Дж. Гилфорда о социальном интеллекте [16] и Х. Гарднера о межличностном и внутриличностном интеллекте [15].
Наиболее общая посылка при изучении онтогенеза системы знаний об эмоциях состоит в утверждении ее постепенного расширения и усложнения [1], [8], [12], [17]. Под расширением понимается повышение информированности ребенка в эмоциональной сфере и увеличение количества понятий, в которых осмысливаются эмоции («словаря эмоций»), что происходит за счет дифференциации первоначальных глобальных аффектов «приятное – неприятное». Усложнение этой системы выражается в усложнении характера связей между ее составляющими, в частности, в разрушении жесткой сцепленности между представлениями о причинах и следствиях той или иной эмоции и т.п.
Такие взгляды на ход развития системы знаний в сфере эмоций в целом разделяются психологами самых различных школ от Эго-психологии ([7], [20]) до современных когнитивных течений [18] — и подтверждаются рядом экспериментальных исследований. Установлено, что с возрастом дети начинают лучше идентифицировать эмоции, границы «эмоциональных» понятий становятся более четкими: так, маленькие дети применяют один и тот же термин для обозначения более широкого круга эмоциональных явлений, чем более старшие дети. Зафиксировано расширение словаря эмоций по мере взросления и увеличение числа параметров, по которым различаются эмоции: вначале их, как правило, два «возбуждение успокоение» и «удовольствие неудовольствие», за тем появляются параметры «связь с другими», «соответствие месту» и т.п. [11].
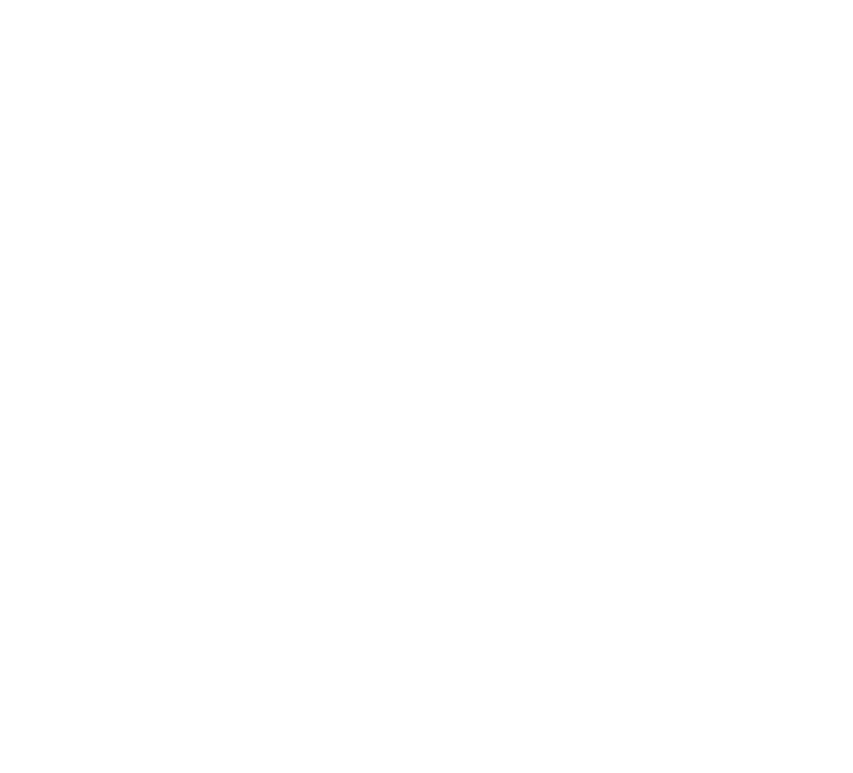
Мягкий, глубокий подход: верните энергию, настрой и жизненный интерес. Работа с травмами, депрессией, усталостью и психосоматическими состояниями. Психоаналитик Наталья Лившиц. Премия Сберздоровья 2024 по отзывам клиентов.
В данной работе мы будем рассматривать в качестве основной единицы организации знаний об эмоциях когнитивную схему. В когнитивной психологии принято разделение категориальной и схематической форм организации знаний [21]. Если категориальная организация знаний предполагает разбиение объектов на классы (категории) и установление связей между ними, то в схематической организации отражаются типичные, устойчивые связи между предметами и последовательностью событий.
В когнитивных схемах эмоций кристаллизуется эмоциональный опыт субъекта, его знания о причинах и проявлениях эмоций. Одной из важнейших функций схемы эмоции можно считать то, что она используется при идентификации эмоций, как чужих, так и своих. Схема объединяет набор признаков, по которым можно судить о наличии той или иной эмоции. Сопоставление совокупности наблюдаемых признаков со схемой позволяет идентифицировать эмоцию. При этом предполагается, что ни один из признаков не является жестко привязанным к определенной эмоции, а ее идентификация осуществляется на вероятностной основе. Кроме того, когнитивные схемы эмоций используются для объяснения и предсказания поведения людей.
На основе теоретического анализа и экспериментальных данных ряда авторов ([5], [23], [24], [27], [28]) строение когнитивной схемы эмоции можно представить следующим образом (рис. 1).
В когнитивных схемах эмоций кристаллизуется эмоциональный опыт субъекта, его знания о причинах и проявлениях эмоций. Одной из важнейших функций схемы эмоции можно считать то, что она используется при идентификации эмоций, как чужих, так и своих. Схема объединяет набор признаков, по которым можно судить о наличии той или иной эмоции. Сопоставление совокупности наблюдаемых признаков со схемой позволяет идентифицировать эмоцию. При этом предполагается, что ни один из признаков не является жестко привязанным к определенной эмоции, а ее идентификация осуществляется на вероятностной основе. Кроме того, когнитивные схемы эмоций используются для объяснения и предсказания поведения людей.
На основе теоретического анализа и экспериментальных данных ряда авторов ([5], [23], [24], [27], [28]) строение когнитивной схемы эмоции можно представить следующим образом (рис. 1).
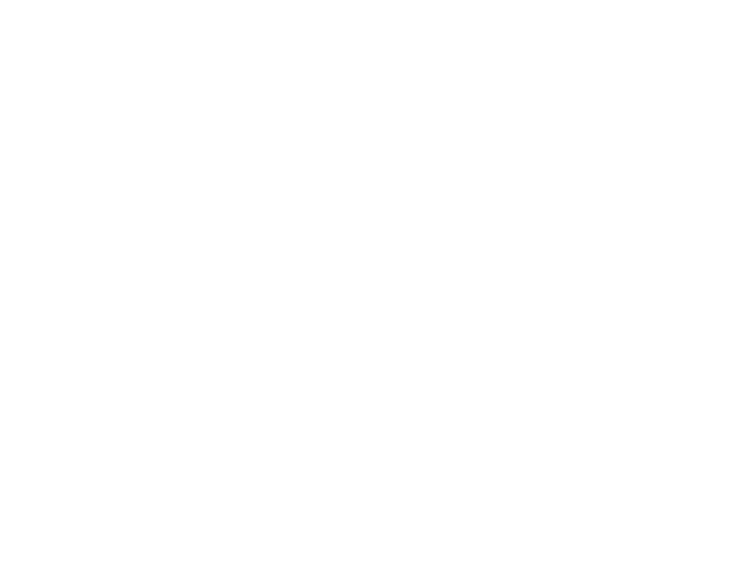
Рис. 1. Когнитивная схема эмоции
Объединяющим ядром схемы является полученное из личного опыта знание о субъективном переживании эмоции. Оно плохо поддается фиксации с помощью средств языка или других знаковых систем и запечатлевается в памяти непосредственно. Именно благодаря возникновению этого эмоционального тона в большинстве случаев (хотя и не всегда) мы непосредственно «знаем», чувствуем, какую эмоцию испытываем. Отметим, что далеко не все авторы считают нужным введение в схему такого элемента, как субъективное переживание, поскольку нет возможности его четко зафиксировать с помощью внешнего наблюдения или каких-либо других объективных процедур. Мы считаем необходимым учитывать этот элемент, так как интроспективно он является главным, а иногда и единственным признаком, по которому человек судит о своем эмоциональном состоянии.
Однако при идентификации эмоций окружающих людей ведущими становятся другие признаки. Вероятно, главными среди них оказываются следствия эмоций, прежде всего их внешние проявления. Эта группа признаков исследуется в психологии эмоций больше всего (например, [7], [13]). К ним можно отнести выражения лица, вокальные изменения, физиологические проявления, прежде всего связанные с активностью вегетативной нервной системы, поведенческие изменения. Сюда же необходимо отнести изменения и других психических процессов, так как эмоции существенно влияют на их протекание. Это особенно ярко показано в исследованиях последних лет, посвященных воздействию эмоций на процессы мышления, восприятия, внимания и памяти (например, [6], [10], [22]).
Еще одну группу элементов схемы эмоции составляют антецеденты, т.е. то, что предшествует и, возможно, является причиной эмоции. К антецедентам относят прежде всего эмоциогенные ситуации [4]. Следует подчеркнуть, что эмоции вызываются не ситуацией самой по себе, а ее взаимодействием с внутренними состояниями индивида и прежде всего с его целями [14]. Таким образом, если наблюдатель представляет себе ситуацию, в которой оказался человек, его цели в данный момент и внешние проявления эмоции, то он имеет достаточно информации, чтобы сделать вывод о том, какая эмоция переживается.
Однако известно, что люди дают разные эмоциональные реакции на одни и те же ситуации, даже если можно пред положить наличие у них одинаковых целей. Известно также, что нет однозначной связи между внешними проявлениями эмоций и субъективным переживанием. Так, улыбка совершенно не обязательно будет свидетельствовать о положительной эмоции. Для идентификации эмоции необходимо учитывать дополнительную информацию о некоторых промежуточных переменных, опосредствующих порождение и проявление эмоции, которые можно назвать медиаторами. К ним можно отнести: во-первых, индивидуальные особенности (темперамент, личностные черты, внутриличностные конфликты, характеристики волевой сферы), которые определяют предрасположенность к возникновению и проявлению тех или иных эмоций; во-вторых, культурные особенности, предопределяющие способы выражения эмоций, нормы, предписывающие, какие эмоции следует, а какие не следует испытывать, и как их проявлять и т.п.; в-третьих, актуальное физическое и психическое состояние индивида, также определяющее особенности эмоционального реагирования.
Конечно, данную структуру схемы эмоции нельзя рассматривать как окончательную и наиболее полную. Однако для целей настоящего исследования она является удобной моделью, позволяющей проследить развитие организации знаний об эмоциях. Важно подчеркнуть, что когнитивная схема эмоции отражает отнюдь не реальное протекание эмоциональных процессов, но форму, в которую организованы знания об эмоциях в памяти человека.
Исходя из описанной структуры схемы эмоции и основываясь на результатах эмпирических исследований, можно представить развитие схематической организации знаний об эмоциях в онтогенезе следующим образом. Сначала появляются отдельные связи типа «ситуация эмоция», «эмоция внешнее выражение». Эти связи являются жесткими, носят разрозненный характер и не организованы в схему. Позже количество элементов схемы увеличивается, а связи становятся более гибкими и интегрированными. Так, по данным П. Харриса, в пять лет дети однозначно привязывают эмоцию к вызывающей ее ситуации, определяя первую через вторую. Только позже у детей появляются представления о внутренних состояниях, опосредствующих связь между ситуацией и эмоциональной реакцией [17]. Ту же тенденцию выявили С. Дональдсон и Н. Вестерман [12]: они показали, что с возрастом дети начинают учитывать зависимость эмоций не только от внешних ситуаций, но и от внутренних состояний, воспоминаний, ожиданий, которые могут или сами вызывать эмоции, или опосредствовать их возникновение.
Таким образом, можно предположить, что качественное развитие когнитивных схем эмоций происходит по следующим направлениям: во-первых, усложняются антецеденты (появляются представления о том, что эмоция вызывается не просто ситуацией, а ее взаимодействием с внутренними состояниями индивида) и следствия (к внешним, например, мимическим, добавляются внутренние, психические); во-вторых, возникают модераторы, опосредствующие эмоциональные реакции; в-третьих, связи между элементами схемы становятся более разнообразными и гибкими, взаимодействие различных элементов приводит к возникновению условных связей типа «если.., то...». Благодаря всем отмеченным изменениям когнитивные схемы эмоций становятся более сложными и дифференцированными и позволяют ребенку все более успешно ориентироваться в неоднозначной эмоциональной реальности. Конечно, экспериментальная проверка высказанных предположений требует серии исследований. В данной работе мы остановились на развитии способности соотносить различные элементы схемы эмоции между собой и делать на основе такого соотнесения вывод о характере переживаемой другим человеком эмоции. В реальной жизни весьма часто встречаются случаи, когда признаки, по которым можно судить о переживаемой эмоции, разноречивы и, следовательно, трудно сказать, какую именно эмоцию испытывает человек. Тем не менее нередко люди оказываются способны правильно идентифицировать эмоцию и понять, в чем причина противоречивости информации. В онтогенезе способность соотносить не согласующиеся прямо схемы эмоции формируется постепенно и требует наличия развитых когнитивных схем, достаточно широких и гибких. Отсюда возникает ряд исследовательских вопросов: как соотносится развитие этой способности с развитием когнитивных схем? В каком возрасте она формируется? Можно ли выделить этапы ее формирования и каковы они? Каким образом ребенку удается разрешить противоречия в информации об эмоции? В соответствии с предложенной нами моделью принципиальный ответ на последний вопрос состоит в том, что когнитивная схема эмоции, включающая медиаторы и достаточно сложные связи между элементами, позволяет ребенку понять, что связи между эмоцией и ее внешним выражением могут быть неоднозначны и опосредствованы.
Цель нашего исследования состояла в том, чтобы изучить развитие соотношения между двумя элементами когнитивной схемы эмоции: знаниями о при чине (ситуации, вызывающей эмоцию) и внешним выражением эмоции. Исследовалось, как в зависимости от возраста развивается способность идентифицировать эмоцию в случае несоответствия друг другу указанных элементов схемы. Исследование состояло из двух этапов. Первый этап носил поисковый характер разрабатывалась методика, изучались типичные ответы испытуемых различных возрастов, формулировались критерии для оценки ответов.
Второй этап исследования включал эксперимент, цель которого состояла в том, чтобы на основе разработанной методики более точно оценить влияние возраста испытуемого на уровень развития когнитивных схем эмоций и проконтролировать влияние возможных побочных переменных.
ПЕРВЫЙ ЭТАП ИССЛЕДОВАНИЯ
Методика. Для выявления относительной значимости внешнего выражения и причины эмоции при ее идентификации была разработана специальная методика. Она включала рассказы, в которых эти два источника информации были представлены в конфликтной форме. Ситуация в рассказе должна была вызывать у персонажа эмоцию одной валентности (положительной или отрицательной), а внешние поведенческие проявления (мимика, поза и т.п.) свидетельствовали о переживании эмоции противоположного знака. Примером рассказа такого рода может служить следующий:
Миша набедокурил в школе. Учительница Нина Ивановна отчитывает его: «Ах, ты, негодный мальчишка! И как тебя земля носит! Какой ты избалованный! Иди и дома такое вытворяй! Не хочу тебя видеть и слышать!» Долго она ругает его, распекает, возмущается. Миша стоит перед ней, улыбается, глаза веселые. Как ты думаешь, что чувствует Миша?
Задачи предъявлялись тридцати детям в возрасте от 4 до 15 лет. Экспериментатор спрашивал ребенка о том, какую эмоцию испытывает главный герой рассказа. После ответа задавался вопрос о том, как ребенок это определил. Ответ испытуемого на этот вопрос был необходим для уточнения источника информации, который он использовал при идентификации эмоции. Допускалось также предоставление подсказок ребенку в том случае, если он затруднялся в ответе. Задачи подобного типа использовались К. Коллисом при изучении когнитивного развития детей на материале гуманитарных школьных предметов [9], Ж. Пиаже [25], Л. Кольбергом [19], Е.В. Субботским [3] при исследовании морального Достоинст в развития детей. Достоинством этих задач является то, что в них используется хорошо знакомый, близкий детям материал. Введение в этот материал противоречий позволяет исследовать способность оперировать несогласующейся информацией.
Результаты показали, что действительно с возрастом изменяется характер ответов испытуемых, к чему приводит, по-видимому, изменение в схемах эмоций. Анализ протоколов решения задач позволил выделить несколько уровней развития способности соотносить такие элементы схемы, как причины эмоции и ее внешние проявления. Кроме этого, были сформулированы критерии для идентификации этих уровней.
На уровне 0 (примерно до 5 лет) ребенок оказывался не в состоянии содержательно ответить на вопрос экспериментатора о том, что испытывает персонаж рассказа, у него отсутствовали адекватные термины для описания эмоций. Создавалось впечатление, что для ребенка эмоция сливается с воздействием, ее вызывающим. Пример типичного ответа этого уровня на вопрос о том, что чувствует персонаж: «...что его обижают».
На уровне А (примерно в 5-6 лет) дети идентифицировали эмоцию, основываясь только на одном источнике информации ситуации, в которой оказался персонаж, или выражении его лица. Пример типичного ответа, соответствующего этому уровню: «Она чувствует плохо». Экспериментатор: «Как ты узнал?». Испытуемый: «Лицо огорченное...». Или: «Он чувствует обиду, так как ругают». Экспериментатор: «А почему лицо веселое?». Испытуемый: «Не знаю, так не бывает».
Уровень В (примерно в 6-7 лет) характеризуется возникновением попыток учитывать оба источника информации при идентификации эмоции. Удалось выявить две наиболее характерные стратегии испытуемых на этом уровне. Одна из них состояла в том, что дети указывали на существование двух чувств, возникающих одно за другим, при этом первое связано с ситуацией, а второе с выражением лица. Например: «Сначала обрадовался, потом обиделся». Другая стратегия заключалась в указании на одновременное существование двух чувств, относящихся к разным объектам. Например: «Он огорчен, что разбил коленку, а радуется, что велосипед не сломался». Таким образом, очевидно, что дети, находящиеся на уровне В, еще не способны адекватно совместить противоречивые признаки эмоций. Существенно, что даже такие неполные совмещения возникали только после дополнительных наводящих вопросов экспериментатора. Очень важным признаком этого уровня оказалось также то, что ребенок при ответе и аргументации не выходил за рамки информации, содержащейся в рассказе.
Наконец, на уровне С (после 7 лет) происходило подлинное совмещение двух противоречивых источников информации за счет привлечения дополнительной информации, например апелляции к некоторой дополнительной переменной или введения ситуации в более широкий контекст. Пример ответа испытуемого: «Больно, но улыбается, потому что гордый». Здесь вводится дополнительная переменная (или, используя термин нашей модели, медиатор) — личностная черта «гордый», — снимающая противоречие. Другой пример объяснения: «Стоит спокойный, потому что знает, что учительница ему ничего не сделает». Такой ответ предполагает имплицитное знание о том, что данная ситуация должна вызывать отрицательные эмоции; спокойная реакция персонажа объясняется с помощью привлечения информации, которой в рассказе не содержалось («учительница ему ничего не сделает»). Таким образом, на уровне С схема эмоции включает в себя большее количество элементов и допускает более сложные связи между ними.
Кроме уровней, выделилось два типа испытуемых в зависимости от того, на какой элемент схемы они предпочитают опираться при идентификации эмоции. Эти различия наиболее отчетливо наблюдались на уровнях А и В. Часть детей опиралась в основном на информацию о ситуации, вызывающей эмоцию, а другая часть на внешние выражения эмоции. На уровне С эти различия уже не наблюдались.
ВТОРОЙ ЭТАП ИССЛЕДОВАНИЯ
Методика
Испытуемые. В эксперименте приняли участие дети в возрасте от 4 до 8 лет, воспитанники двух детских садов и средней школы Москвы. Испытуемые были выбраны из пяти возрастных групп 4, 5, 6, 7 и 8 лет. Возрастной разброс в пределах одной группы был не более шести месяцев (например, 4 года ± 3 мес и аналогично в других возрастах). В каждую возрастную группу вошло по четыре испытуемых два мальчика и две девочки. Таким образом, всего было 20 испытуемых, поровну мальчиков и девочек.
Стимульный материал. В эксперименте использовались четыре коротких рассказа, персонажами которых выступали дети того же возраста, что и испытуемые. Все рассказы имели одинаковую структуру: персонаж попадал в ситуацию, которая должна была вызвать некоторую эмоцию (например, падал с велосипеда и разбивал коленку), а выражение его лица свидетельствовало об эмоции противоположной валентности (например, улыбка). В двух рассказах ситуация должна была вызвать отрицательную эмоцию, а выражение лица свидетельствовало о положительной эмоции; в двух других рассказах, наоборот, ситуация должна была вызвать положительную эмоцию, а выражение лица свидетельствовало об отрицательной эмоции.
Приведем в качестве примера один из рассказов: «Лена давно мечтала о новых фломастерах. Чтобы их было много-много, не меньше 24, чтобы были необычные цвета и чтобы долго не кончались. И вот подарили! Именно такие фломастеры, о каких она мечтала, и даже еще лучше, 48 штук, в красивой яркой упаковке. Лена держит подарок в руках, уголки рта у нее опустились, глаза смотрят в пол».
Процедура. Эксперимент проводился индивидуально с каждым испытуемым. Прежде всего экспериментатор добивался хорошего контакта с ребенком, чтобы тот чувствовал себя комфортно и охотно отвечал на вопросы. Далее экспериментатор устно предъявлял один из рассказов и задавал вопрос: «Как ты дума ешь, что чувствует [Лена)?» Если ребенок затруднялся ответить на этот вопрос (что случалось нередко в младших возрастных группах), то экспериментатор пытался стимулировать ответ, однако не давал никакой дополнительной информации о содержании рассказа и не задавал вопросы, отличные по смыслу от первого. Если из ответа испытуемого следовало, что он учитывает только один источник информации об эмоции персонажа (ситуацию, в которую попал персонаж, или же выражение его лица), то экспериментатор указывал на противоречие в содержании рассказа и просил его с разъяснить. Ответы испытуемых записывались помощью диктофона.
Каждому из 20 испытуемых предъявлялись все четыре рассказа (т.е. общее количество проб составило 80), однако в разном порядке, чтобы устранить возможные эффекты последовательности. Кроме того, в рассказах менялся пол персонажа таким образом, чтобы каждый испытуемый получил два рассказа про мальчика и два про девочку.
План эксперимента. Независимой переменной являлся возраст испытуемых (5 уровней). Контролировалась также переменная «пол испытуемого» и переменные, относящиеся к особенностям заданий, а именно «пол персонажа рассказа» и «сочетание валентностей эмоций» (ситуация вызывает отрицательную эмоцию, а выражение лица свидетельствует о положительной эмоции, и наоборот). Таким образом, использовался четырехфакторный план 5х2х2х2. В качестве зависимой переменной выступал уровень развития способности соотносить противоречивую информацию о причине эмоции и ее внешнем выражении.
Результаты
Протоколы эксперимента были разбиты соответственно количеству проб на 80 фрагментов, которые оценивались тремя экспертами, работавшими независимо друг от друга. При этом эксперты не знали, какому испытуемому принадлежит тот или иной фрагмент. Эксперты относили пробы к уровню 0, А, В или С, основываясь на описанных выше критериях выделения уровней. Для оценки согласованности экспертных оценок был рассчитан показатель α Кронбаха, оказавшийся равным 0,810, что позволяет оценить согласованность экспертов как достаточно высокую. Окончательно каждая проба была отнесена к тому уровню, который ей приписало большинство экспертов.
Полученные данные были подвергнуты четырехфакторному дисперсионному анализу с повторными измерениями по переменным «пол персонажа рассказа» и «сочетание валентностей эмоций». Из основных эффектов значимым оказался только эффект переменной «возраст испытуемых» (F(4,75)=14,82, p<0,001). Значимых эффектов взаимодействий выявлено не было.
Однако при идентификации эмоций окружающих людей ведущими становятся другие признаки. Вероятно, главными среди них оказываются следствия эмоций, прежде всего их внешние проявления. Эта группа признаков исследуется в психологии эмоций больше всего (например, [7], [13]). К ним можно отнести выражения лица, вокальные изменения, физиологические проявления, прежде всего связанные с активностью вегетативной нервной системы, поведенческие изменения. Сюда же необходимо отнести изменения и других психических процессов, так как эмоции существенно влияют на их протекание. Это особенно ярко показано в исследованиях последних лет, посвященных воздействию эмоций на процессы мышления, восприятия, внимания и памяти (например, [6], [10], [22]).
Еще одну группу элементов схемы эмоции составляют антецеденты, т.е. то, что предшествует и, возможно, является причиной эмоции. К антецедентам относят прежде всего эмоциогенные ситуации [4]. Следует подчеркнуть, что эмоции вызываются не ситуацией самой по себе, а ее взаимодействием с внутренними состояниями индивида и прежде всего с его целями [14]. Таким образом, если наблюдатель представляет себе ситуацию, в которой оказался человек, его цели в данный момент и внешние проявления эмоции, то он имеет достаточно информации, чтобы сделать вывод о том, какая эмоция переживается.
Однако известно, что люди дают разные эмоциональные реакции на одни и те же ситуации, даже если можно пред положить наличие у них одинаковых целей. Известно также, что нет однозначной связи между внешними проявлениями эмоций и субъективным переживанием. Так, улыбка совершенно не обязательно будет свидетельствовать о положительной эмоции. Для идентификации эмоции необходимо учитывать дополнительную информацию о некоторых промежуточных переменных, опосредствующих порождение и проявление эмоции, которые можно назвать медиаторами. К ним можно отнести: во-первых, индивидуальные особенности (темперамент, личностные черты, внутриличностные конфликты, характеристики волевой сферы), которые определяют предрасположенность к возникновению и проявлению тех или иных эмоций; во-вторых, культурные особенности, предопределяющие способы выражения эмоций, нормы, предписывающие, какие эмоции следует, а какие не следует испытывать, и как их проявлять и т.п.; в-третьих, актуальное физическое и психическое состояние индивида, также определяющее особенности эмоционального реагирования.
Конечно, данную структуру схемы эмоции нельзя рассматривать как окончательную и наиболее полную. Однако для целей настоящего исследования она является удобной моделью, позволяющей проследить развитие организации знаний об эмоциях. Важно подчеркнуть, что когнитивная схема эмоции отражает отнюдь не реальное протекание эмоциональных процессов, но форму, в которую организованы знания об эмоциях в памяти человека.
Исходя из описанной структуры схемы эмоции и основываясь на результатах эмпирических исследований, можно представить развитие схематической организации знаний об эмоциях в онтогенезе следующим образом. Сначала появляются отдельные связи типа «ситуация эмоция», «эмоция внешнее выражение». Эти связи являются жесткими, носят разрозненный характер и не организованы в схему. Позже количество элементов схемы увеличивается, а связи становятся более гибкими и интегрированными. Так, по данным П. Харриса, в пять лет дети однозначно привязывают эмоцию к вызывающей ее ситуации, определяя первую через вторую. Только позже у детей появляются представления о внутренних состояниях, опосредствующих связь между ситуацией и эмоциональной реакцией [17]. Ту же тенденцию выявили С. Дональдсон и Н. Вестерман [12]: они показали, что с возрастом дети начинают учитывать зависимость эмоций не только от внешних ситуаций, но и от внутренних состояний, воспоминаний, ожиданий, которые могут или сами вызывать эмоции, или опосредствовать их возникновение.
Таким образом, можно предположить, что качественное развитие когнитивных схем эмоций происходит по следующим направлениям: во-первых, усложняются антецеденты (появляются представления о том, что эмоция вызывается не просто ситуацией, а ее взаимодействием с внутренними состояниями индивида) и следствия (к внешним, например, мимическим, добавляются внутренние, психические); во-вторых, возникают модераторы, опосредствующие эмоциональные реакции; в-третьих, связи между элементами схемы становятся более разнообразными и гибкими, взаимодействие различных элементов приводит к возникновению условных связей типа «если.., то...». Благодаря всем отмеченным изменениям когнитивные схемы эмоций становятся более сложными и дифференцированными и позволяют ребенку все более успешно ориентироваться в неоднозначной эмоциональной реальности. Конечно, экспериментальная проверка высказанных предположений требует серии исследований. В данной работе мы остановились на развитии способности соотносить различные элементы схемы эмоции между собой и делать на основе такого соотнесения вывод о характере переживаемой другим человеком эмоции. В реальной жизни весьма часто встречаются случаи, когда признаки, по которым можно судить о переживаемой эмоции, разноречивы и, следовательно, трудно сказать, какую именно эмоцию испытывает человек. Тем не менее нередко люди оказываются способны правильно идентифицировать эмоцию и понять, в чем причина противоречивости информации. В онтогенезе способность соотносить не согласующиеся прямо схемы эмоции формируется постепенно и требует наличия развитых когнитивных схем, достаточно широких и гибких. Отсюда возникает ряд исследовательских вопросов: как соотносится развитие этой способности с развитием когнитивных схем? В каком возрасте она формируется? Можно ли выделить этапы ее формирования и каковы они? Каким образом ребенку удается разрешить противоречия в информации об эмоции? В соответствии с предложенной нами моделью принципиальный ответ на последний вопрос состоит в том, что когнитивная схема эмоции, включающая медиаторы и достаточно сложные связи между элементами, позволяет ребенку понять, что связи между эмоцией и ее внешним выражением могут быть неоднозначны и опосредствованы.
Цель нашего исследования состояла в том, чтобы изучить развитие соотношения между двумя элементами когнитивной схемы эмоции: знаниями о при чине (ситуации, вызывающей эмоцию) и внешним выражением эмоции. Исследовалось, как в зависимости от возраста развивается способность идентифицировать эмоцию в случае несоответствия друг другу указанных элементов схемы. Исследование состояло из двух этапов. Первый этап носил поисковый характер разрабатывалась методика, изучались типичные ответы испытуемых различных возрастов, формулировались критерии для оценки ответов.
Второй этап исследования включал эксперимент, цель которого состояла в том, чтобы на основе разработанной методики более точно оценить влияние возраста испытуемого на уровень развития когнитивных схем эмоций и проконтролировать влияние возможных побочных переменных.
ПЕРВЫЙ ЭТАП ИССЛЕДОВАНИЯ
Методика. Для выявления относительной значимости внешнего выражения и причины эмоции при ее идентификации была разработана специальная методика. Она включала рассказы, в которых эти два источника информации были представлены в конфликтной форме. Ситуация в рассказе должна была вызывать у персонажа эмоцию одной валентности (положительной или отрицательной), а внешние поведенческие проявления (мимика, поза и т.п.) свидетельствовали о переживании эмоции противоположного знака. Примером рассказа такого рода может служить следующий:
Миша набедокурил в школе. Учительница Нина Ивановна отчитывает его: «Ах, ты, негодный мальчишка! И как тебя земля носит! Какой ты избалованный! Иди и дома такое вытворяй! Не хочу тебя видеть и слышать!» Долго она ругает его, распекает, возмущается. Миша стоит перед ней, улыбается, глаза веселые. Как ты думаешь, что чувствует Миша?
Задачи предъявлялись тридцати детям в возрасте от 4 до 15 лет. Экспериментатор спрашивал ребенка о том, какую эмоцию испытывает главный герой рассказа. После ответа задавался вопрос о том, как ребенок это определил. Ответ испытуемого на этот вопрос был необходим для уточнения источника информации, который он использовал при идентификации эмоции. Допускалось также предоставление подсказок ребенку в том случае, если он затруднялся в ответе. Задачи подобного типа использовались К. Коллисом при изучении когнитивного развития детей на материале гуманитарных школьных предметов [9], Ж. Пиаже [25], Л. Кольбергом [19], Е.В. Субботским [3] при исследовании морального Достоинст в развития детей. Достоинством этих задач является то, что в них используется хорошо знакомый, близкий детям материал. Введение в этот материал противоречий позволяет исследовать способность оперировать несогласующейся информацией.
Результаты показали, что действительно с возрастом изменяется характер ответов испытуемых, к чему приводит, по-видимому, изменение в схемах эмоций. Анализ протоколов решения задач позволил выделить несколько уровней развития способности соотносить такие элементы схемы, как причины эмоции и ее внешние проявления. Кроме этого, были сформулированы критерии для идентификации этих уровней.
На уровне 0 (примерно до 5 лет) ребенок оказывался не в состоянии содержательно ответить на вопрос экспериментатора о том, что испытывает персонаж рассказа, у него отсутствовали адекватные термины для описания эмоций. Создавалось впечатление, что для ребенка эмоция сливается с воздействием, ее вызывающим. Пример типичного ответа этого уровня на вопрос о том, что чувствует персонаж: «...что его обижают».
На уровне А (примерно в 5-6 лет) дети идентифицировали эмоцию, основываясь только на одном источнике информации ситуации, в которой оказался персонаж, или выражении его лица. Пример типичного ответа, соответствующего этому уровню: «Она чувствует плохо». Экспериментатор: «Как ты узнал?». Испытуемый: «Лицо огорченное...». Или: «Он чувствует обиду, так как ругают». Экспериментатор: «А почему лицо веселое?». Испытуемый: «Не знаю, так не бывает».
Уровень В (примерно в 6-7 лет) характеризуется возникновением попыток учитывать оба источника информации при идентификации эмоции. Удалось выявить две наиболее характерные стратегии испытуемых на этом уровне. Одна из них состояла в том, что дети указывали на существование двух чувств, возникающих одно за другим, при этом первое связано с ситуацией, а второе с выражением лица. Например: «Сначала обрадовался, потом обиделся». Другая стратегия заключалась в указании на одновременное существование двух чувств, относящихся к разным объектам. Например: «Он огорчен, что разбил коленку, а радуется, что велосипед не сломался». Таким образом, очевидно, что дети, находящиеся на уровне В, еще не способны адекватно совместить противоречивые признаки эмоций. Существенно, что даже такие неполные совмещения возникали только после дополнительных наводящих вопросов экспериментатора. Очень важным признаком этого уровня оказалось также то, что ребенок при ответе и аргументации не выходил за рамки информации, содержащейся в рассказе.
Наконец, на уровне С (после 7 лет) происходило подлинное совмещение двух противоречивых источников информации за счет привлечения дополнительной информации, например апелляции к некоторой дополнительной переменной или введения ситуации в более широкий контекст. Пример ответа испытуемого: «Больно, но улыбается, потому что гордый». Здесь вводится дополнительная переменная (или, используя термин нашей модели, медиатор) — личностная черта «гордый», — снимающая противоречие. Другой пример объяснения: «Стоит спокойный, потому что знает, что учительница ему ничего не сделает». Такой ответ предполагает имплицитное знание о том, что данная ситуация должна вызывать отрицательные эмоции; спокойная реакция персонажа объясняется с помощью привлечения информации, которой в рассказе не содержалось («учительница ему ничего не сделает»). Таким образом, на уровне С схема эмоции включает в себя большее количество элементов и допускает более сложные связи между ними.
Кроме уровней, выделилось два типа испытуемых в зависимости от того, на какой элемент схемы они предпочитают опираться при идентификации эмоции. Эти различия наиболее отчетливо наблюдались на уровнях А и В. Часть детей опиралась в основном на информацию о ситуации, вызывающей эмоцию, а другая часть на внешние выражения эмоции. На уровне С эти различия уже не наблюдались.
ВТОРОЙ ЭТАП ИССЛЕДОВАНИЯ
Методика
Испытуемые. В эксперименте приняли участие дети в возрасте от 4 до 8 лет, воспитанники двух детских садов и средней школы Москвы. Испытуемые были выбраны из пяти возрастных групп 4, 5, 6, 7 и 8 лет. Возрастной разброс в пределах одной группы был не более шести месяцев (например, 4 года ± 3 мес и аналогично в других возрастах). В каждую возрастную группу вошло по четыре испытуемых два мальчика и две девочки. Таким образом, всего было 20 испытуемых, поровну мальчиков и девочек.
Стимульный материал. В эксперименте использовались четыре коротких рассказа, персонажами которых выступали дети того же возраста, что и испытуемые. Все рассказы имели одинаковую структуру: персонаж попадал в ситуацию, которая должна была вызвать некоторую эмоцию (например, падал с велосипеда и разбивал коленку), а выражение его лица свидетельствовало об эмоции противоположной валентности (например, улыбка). В двух рассказах ситуация должна была вызвать отрицательную эмоцию, а выражение лица свидетельствовало о положительной эмоции; в двух других рассказах, наоборот, ситуация должна была вызвать положительную эмоцию, а выражение лица свидетельствовало об отрицательной эмоции.
Приведем в качестве примера один из рассказов: «Лена давно мечтала о новых фломастерах. Чтобы их было много-много, не меньше 24, чтобы были необычные цвета и чтобы долго не кончались. И вот подарили! Именно такие фломастеры, о каких она мечтала, и даже еще лучше, 48 штук, в красивой яркой упаковке. Лена держит подарок в руках, уголки рта у нее опустились, глаза смотрят в пол».
Процедура. Эксперимент проводился индивидуально с каждым испытуемым. Прежде всего экспериментатор добивался хорошего контакта с ребенком, чтобы тот чувствовал себя комфортно и охотно отвечал на вопросы. Далее экспериментатор устно предъявлял один из рассказов и задавал вопрос: «Как ты дума ешь, что чувствует [Лена)?» Если ребенок затруднялся ответить на этот вопрос (что случалось нередко в младших возрастных группах), то экспериментатор пытался стимулировать ответ, однако не давал никакой дополнительной информации о содержании рассказа и не задавал вопросы, отличные по смыслу от первого. Если из ответа испытуемого следовало, что он учитывает только один источник информации об эмоции персонажа (ситуацию, в которую попал персонаж, или же выражение его лица), то экспериментатор указывал на противоречие в содержании рассказа и просил его с разъяснить. Ответы испытуемых записывались помощью диктофона.
Каждому из 20 испытуемых предъявлялись все четыре рассказа (т.е. общее количество проб составило 80), однако в разном порядке, чтобы устранить возможные эффекты последовательности. Кроме того, в рассказах менялся пол персонажа таким образом, чтобы каждый испытуемый получил два рассказа про мальчика и два про девочку.
План эксперимента. Независимой переменной являлся возраст испытуемых (5 уровней). Контролировалась также переменная «пол испытуемого» и переменные, относящиеся к особенностям заданий, а именно «пол персонажа рассказа» и «сочетание валентностей эмоций» (ситуация вызывает отрицательную эмоцию, а выражение лица свидетельствует о положительной эмоции, и наоборот). Таким образом, использовался четырехфакторный план 5х2х2х2. В качестве зависимой переменной выступал уровень развития способности соотносить противоречивую информацию о причине эмоции и ее внешнем выражении.
Результаты
Протоколы эксперимента были разбиты соответственно количеству проб на 80 фрагментов, которые оценивались тремя экспертами, работавшими независимо друг от друга. При этом эксперты не знали, какому испытуемому принадлежит тот или иной фрагмент. Эксперты относили пробы к уровню 0, А, В или С, основываясь на описанных выше критериях выделения уровней. Для оценки согласованности экспертных оценок был рассчитан показатель α Кронбаха, оказавшийся равным 0,810, что позволяет оценить согласованность экспертов как достаточно высокую. Окончательно каждая проба была отнесена к тому уровню, который ей приписало большинство экспертов.
Полученные данные были подвергнуты четырехфакторному дисперсионному анализу с повторными измерениями по переменным «пол персонажа рассказа» и «сочетание валентностей эмоций». Из основных эффектов значимым оказался только эффект переменной «возраст испытуемых» (F(4,75)=14,82, p<0,001). Значимых эффектов взаимодействий выявлено не было.
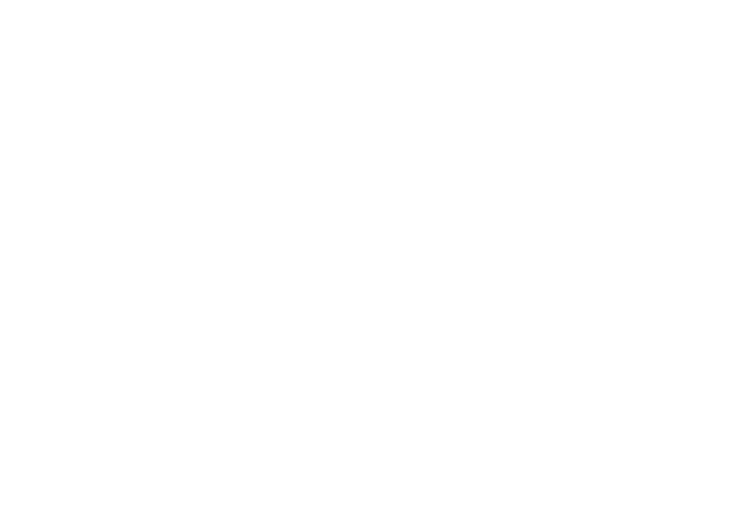
Рис. 2. Относительное количество проб, соответствующих уровням 0, А, В и С в разных возрастных группах
На рис. 2 показано относительное количество проб, соответствующих уровням 0, А, В и С в разных возрастах; общее количество проб в каждой возрастной группе принято за 100%. Как видно из рис. 2, с возрастом наблюдается постепенный переход на более высокие уровни. Уровень В появляется не ранее 5 лет, и то в очень небольшом количестве. Наиболее смешанные результаты наблюдаются в возрасте 6 лет, когда дети впервые оказываются способными давать ответы на уровне С, но при этом еще сохраняется небольшое количество ответов на нулевом уровне. Окончательное утверждение уровня С происходит в 8 лет.
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Обнаружено, что существует четкая зависимость развития способности понимать противоречивую информацию об эмоциях от возраста ребенка. Тот факт, что не удалось выявить влияния на исследуемую способность пола ребенка и особенностей стимульного материала, позволяет предположить, что мы имеем дело с общей закономерностью когнитивного развития. С точки зрения описанной выше модели развития схем эмоций можно следующим образом представить полученные результаты. На уровне 0 у детей не существует сколько-нибудь устойчивых форм схематической организации знаний об эмоциях, по крайней мере они не вербализуются. На уровне А начинается формирование схем эмоций: наблюдается наличие отдельных связей между эмоцией и ее причиной или следствием. Однако эти связи не объединяются в единую схему, поэтому ребенку не удается справиться с противоречивой информацией. Отдельные связи начинают интегрироваться в схему на уровне В, но лишь на уровне С формируются настолько развитые схемы, что ребенку удается разрешать противоречия в информации об эмоции.
Рассмотрим способы, используемые испытуемыми, поскольку они проливают свет на развитие схематических знаний об эмоциях. Один из способов состоит в апелляции к некоторой дополнительной переменной, например личностной черте персонажа, что свидетельствует о появлении в схеме эмоции медиатора, опосредствующего эмоциональные реакции. Другой способ состоит во включении ситуации рассказа в более широкий контекст, что свидетельствует о появлении у ребенка способности соотносить схемы эмоций с более широкими структурами знаний, т.е. в конечном итоге речь идет о повышении степени интегрированности и гибкости всей системы знаний.
Отдельного внимания заслуживают выделившиеся на уровнях А и В два типа испытуемых, один из которых опирается при идентификации эмоций на внешние проявления (экспрессивный), а другой – на логику эмоциогенной ситуации (логический). В рамках данного исследования невозможно более детально изучить этот феномен, однако можно предположить, что, возможно, речь идет о влиянии на ход формирования схем эмоций базовых индивидуальных особенностей детей. В самом деле, психотерапевты недаром различают людей, глубоко переживающих и, что немаловажно, буквально «считывающих» малейшие нюансы эмоций с выражения лиц окружающих, их жестов, тона голоса (так называемые депрессивный, со-зависимый типы) и людей, склонных опираться в жизни на изолированные от аффекта рациональные построения (например, обсессивный тип), а также «проигрывающих» эмоции в своих действиях, но не переживающих их как нечто аффективное (психопатический тип) [2]. Следует отметить, что авторы психоаналитической ориентации считают, что в основе таких ярких различий лежат врожденые темпераментальные характеристики [2]. Возможно, мы столкнулись с проявлениями именно подобных базовых свойств эмоциональности.
В то же время можно увидеть определенную аналогию между установленными в нашем исследовании типами (логическим и экспрессивным) и проявлениями полезависимого и поленезависимого когнитивных стилей, выделенных Г. Виткиным [29]. Так, акцент, который делают некоторые дети при распознавании эмоций на содержании ситуации, напоминает поленезависимый когнитивный стиль, поскольку основой для принятия решения о том, какая же эмоция имеет место, становятся уже имеющиеся у ребенка знания, представления о том, «как это бывает», а не наблюдаемые, видимые мимические проявления героя. Дети же, учитывающие прежде всего мимику персонажа, напротив, кажутся полезависимыми, поскольку опираются не на то, что, исходя из логики, они знают об обстоятельствах эмоций, а на то, что непосредственно «видят в поле» на выражение лица маленького героя услышанной истории.
Конечно, ответ на вопрос, с проявлением какого индивидуального свойства мы столкнулись с особенностью темперамента или когнитивным стилем, требует специального исследования. Тем не менее выявленные в наших экспериментах два различных типа испытуемых дают право ставить вопросы, касающиеся связи изучавшегося компонента когнитивной системы с особенностями, традиционно относимыми к сфере темперамента, характера, личности.
Полученные нами результаты интересно сопоставить с данными С. Дональдсон и Н. Вестермана [12], которые изучали развитие способности понимать амбивалентность эмоций на детях от 4 до 11 лет. Эти авторы, используя другую методическую процедуру, выделили четыре уровня в развитии понимания амбивалентности эмоций. На нулевом уровне ребенок признает существование только одной эмоции. На первом и втором уровнях признается возможность существования двух противоречивых эмоций, но они оказываются разделенными во времени или в пространстве. И, наконец, на третьем уровне возникает полное понимание возможности амбивалентности эмоций.
Третий уровень достигается большинством детей лишь к 10-11 годам. Очевидно, уровень 0 соответствует нашему уровню А, первый и второй уровни уровню В (причем в обоих исследованиях нашем и С. Дональдсон и Н. Вестермана дети используют сходные стратегии для примирения противоречия), третий уровень уровню С. Различия в возрастных границах уровней можно объяснить различиями применявшихся методик, однако показательно, что последовательность и содержательная характеристика уровней совпадают.
Результаты, полученные в нашей работе, хорошо согласуются с данными других авторов, изучающих моральное мышление детей и понимание ими эмоций [9], [19], [26]. Полученные результаты четко показывают, что несмотря на общее для всех детей направление развития, в пределах одной возрастной группы возможно сосуществование различных уровней; особенно показателен в этом плане возраст 6 лет. Более детальный анализ протоколов демонстрирует, что один и тот же испытуемый при решении разных задач может давать ответы разного уровня.
Результаты данного исследования не позволили выявить факторы, которые могли бы повлиять на такие рассогласования, так как значимый эффект получен только по одному фактору возрасту испытуемых. Однако здесь есть поле для дальнейших исследований. В частности, существующие данные позволяют предположить, что важным фактором, влияющим на уровень ответа испытуемого, могут быть особенности личностного развития: создается впечатление, что невротизированные дети отстают в способности понимать свои и чужие эмоции.
Несомненный интерес представляет также исследование соотношения интеллектуального развития детей в области понимания эмоций с интеллектуальным развитием в тех сферах, где происходит систематическое обучение ребенка (например, в математике). За этим вопросом стоит более широкая проблема соотношения развития естественных и научных понятий.
В заключение следует отметить, что выделенные эмпирически уровни развития способности понимать противоречивую информацию об эмоциях отражают, с нашей точки зрения, постепенное развитие и интеграцию когнитивных схем эмоций, организующих знания ребенка о порождении и проявлении эмоций и используемых им при их идентификации. Полученные результаты позволили описать некоторые стороны развития схем эмоций и могут стать основой для более детального исследования механизмов функционирования этих схем при понимании внутреннего мира и поступков как других людей, так и своих собственных.
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Обнаружено, что существует четкая зависимость развития способности понимать противоречивую информацию об эмоциях от возраста ребенка. Тот факт, что не удалось выявить влияния на исследуемую способность пола ребенка и особенностей стимульного материала, позволяет предположить, что мы имеем дело с общей закономерностью когнитивного развития. С точки зрения описанной выше модели развития схем эмоций можно следующим образом представить полученные результаты. На уровне 0 у детей не существует сколько-нибудь устойчивых форм схематической организации знаний об эмоциях, по крайней мере они не вербализуются. На уровне А начинается формирование схем эмоций: наблюдается наличие отдельных связей между эмоцией и ее причиной или следствием. Однако эти связи не объединяются в единую схему, поэтому ребенку не удается справиться с противоречивой информацией. Отдельные связи начинают интегрироваться в схему на уровне В, но лишь на уровне С формируются настолько развитые схемы, что ребенку удается разрешать противоречия в информации об эмоции.
Рассмотрим способы, используемые испытуемыми, поскольку они проливают свет на развитие схематических знаний об эмоциях. Один из способов состоит в апелляции к некоторой дополнительной переменной, например личностной черте персонажа, что свидетельствует о появлении в схеме эмоции медиатора, опосредствующего эмоциональные реакции. Другой способ состоит во включении ситуации рассказа в более широкий контекст, что свидетельствует о появлении у ребенка способности соотносить схемы эмоций с более широкими структурами знаний, т.е. в конечном итоге речь идет о повышении степени интегрированности и гибкости всей системы знаний.
Отдельного внимания заслуживают выделившиеся на уровнях А и В два типа испытуемых, один из которых опирается при идентификации эмоций на внешние проявления (экспрессивный), а другой – на логику эмоциогенной ситуации (логический). В рамках данного исследования невозможно более детально изучить этот феномен, однако можно предположить, что, возможно, речь идет о влиянии на ход формирования схем эмоций базовых индивидуальных особенностей детей. В самом деле, психотерапевты недаром различают людей, глубоко переживающих и, что немаловажно, буквально «считывающих» малейшие нюансы эмоций с выражения лиц окружающих, их жестов, тона голоса (так называемые депрессивный, со-зависимый типы) и людей, склонных опираться в жизни на изолированные от аффекта рациональные построения (например, обсессивный тип), а также «проигрывающих» эмоции в своих действиях, но не переживающих их как нечто аффективное (психопатический тип) [2]. Следует отметить, что авторы психоаналитической ориентации считают, что в основе таких ярких различий лежат врожденые темпераментальные характеристики [2]. Возможно, мы столкнулись с проявлениями именно подобных базовых свойств эмоциональности.
В то же время можно увидеть определенную аналогию между установленными в нашем исследовании типами (логическим и экспрессивным) и проявлениями полезависимого и поленезависимого когнитивных стилей, выделенных Г. Виткиным [29]. Так, акцент, который делают некоторые дети при распознавании эмоций на содержании ситуации, напоминает поленезависимый когнитивный стиль, поскольку основой для принятия решения о том, какая же эмоция имеет место, становятся уже имеющиеся у ребенка знания, представления о том, «как это бывает», а не наблюдаемые, видимые мимические проявления героя. Дети же, учитывающие прежде всего мимику персонажа, напротив, кажутся полезависимыми, поскольку опираются не на то, что, исходя из логики, они знают об обстоятельствах эмоций, а на то, что непосредственно «видят в поле» на выражение лица маленького героя услышанной истории.
Конечно, ответ на вопрос, с проявлением какого индивидуального свойства мы столкнулись с особенностью темперамента или когнитивным стилем, требует специального исследования. Тем не менее выявленные в наших экспериментах два различных типа испытуемых дают право ставить вопросы, касающиеся связи изучавшегося компонента когнитивной системы с особенностями, традиционно относимыми к сфере темперамента, характера, личности.
Полученные нами результаты интересно сопоставить с данными С. Дональдсон и Н. Вестермана [12], которые изучали развитие способности понимать амбивалентность эмоций на детях от 4 до 11 лет. Эти авторы, используя другую методическую процедуру, выделили четыре уровня в развитии понимания амбивалентности эмоций. На нулевом уровне ребенок признает существование только одной эмоции. На первом и втором уровнях признается возможность существования двух противоречивых эмоций, но они оказываются разделенными во времени или в пространстве. И, наконец, на третьем уровне возникает полное понимание возможности амбивалентности эмоций.
Третий уровень достигается большинством детей лишь к 10-11 годам. Очевидно, уровень 0 соответствует нашему уровню А, первый и второй уровни уровню В (причем в обоих исследованиях нашем и С. Дональдсон и Н. Вестермана дети используют сходные стратегии для примирения противоречия), третий уровень уровню С. Различия в возрастных границах уровней можно объяснить различиями применявшихся методик, однако показательно, что последовательность и содержательная характеристика уровней совпадают.
Результаты, полученные в нашей работе, хорошо согласуются с данными других авторов, изучающих моральное мышление детей и понимание ими эмоций [9], [19], [26]. Полученные результаты четко показывают, что несмотря на общее для всех детей направление развития, в пределах одной возрастной группы возможно сосуществование различных уровней; особенно показателен в этом плане возраст 6 лет. Более детальный анализ протоколов демонстрирует, что один и тот же испытуемый при решении разных задач может давать ответы разного уровня.
Результаты данного исследования не позволили выявить факторы, которые могли бы повлиять на такие рассогласования, так как значимый эффект получен только по одному фактору возрасту испытуемых. Однако здесь есть поле для дальнейших исследований. В частности, существующие данные позволяют предположить, что важным фактором, влияющим на уровень ответа испытуемого, могут быть особенности личностного развития: создается впечатление, что невротизированные дети отстают в способности понимать свои и чужие эмоции.
Несомненный интерес представляет также исследование соотношения интеллектуального развития детей в области понимания эмоций с интеллектуальным развитием в тех сферах, где происходит систематическое обучение ребенка (например, в математике). За этим вопросом стоит более широкая проблема соотношения развития естественных и научных понятий.
В заключение следует отметить, что выделенные эмпирически уровни развития способности понимать противоречивую информацию об эмоциях отражают, с нашей точки зрения, постепенное развитие и интеграцию когнитивных схем эмоций, организующих знания ребенка о порождении и проявлении эмоций и используемых им при их идентификации. Полученные результаты позволили описать некоторые стороны развития схем эмоций и могут стать основой для более детального исследования механизмов функционирования этих схем при понимании внутреннего мира и поступков как других людей, так и своих собственных.
Tilda Publishing